
|
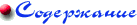
|
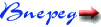
|
Один из самых замечательных русских языковедов XX в. академик В. В. Виноградов (1895—1969) был ученым, продолжавшим и развивавшим традиции той русской филологической школы, последователи которой, обладая глубокой гуманитарной эрудицией, в своих исследованиях не проводили резкой грани между проблематикой, лежащей в сферах языкознания и литературоведения, стилистики и текстологии, теоретической лингвистики и практического применения ее результатов. Перу В. В. Виноградова принадлежит более 300 работ, посвященных самым разным вопросам русской филологии: это фундаментальные исследования по истории русского языка, по его грамматике, лексике, труды о языке и стиле писателей-классиков, текстологии, лексикографические и историографические работы. Во всех этих областях ученым было сказано новое слово; им создана школа учеников, которые продолжали и продолжают развивать его идеи.
В. В. Виноградов многие годы работал над монографией, посвященной истории слов и устойчивых выражений, задуманной им как исследование путей развития русской лексики и фразеологии в ее неразрывной связи с историей общественной мысли и культуры русского народа. Начиная с 20-х гг., в течение нескольких десятилетий он любовно и тщательно собирал материалы, касающиеся истории слов и выражений, принадлежащих литературному языку, русским народным говорам, народной разговорной речи, истории славянизмов, древних и новых заимствований, индивидуальных новообразований, профессионализмов, жаргонизмов. Был собран огромный и неоценимый материал, рассредоточенный по таким источникам, которые уже тогда были редки и малодоступны. Те свои разыскания, которые В. В. Виноградов считал относительно законченными, он публиковал в виде статей и заметок в русских и зарубежных журналах и сборниках, многие из этих изданий сейчас стали малодоступны или вообще недоступны для читателей, некоторые просто утрачены. Однако в таком виде опубликована была только часть большой работы: многое осталось в рукописях, в незаконченных этюдах и набросках, просто в виде снабженных заметками выписок из художественных произведений, словарей, из работ других авторов — историков, этнографов, фольклористов, литературоведов; сами эти наброски и выборки, замечания к ним представляют большой научный и познавательный интерес.
Акад. В. В. Виноградов принадлежал к числу тех лучших представителей русской интеллигенции, которых не миновала судьба, уготованная им коммунистическим режимом1. Дважды он был в далеких ссылках; уже вернувшись, после войны, он испытал гонения, которые обрушили на него сторонники марровского так называемого «нового учения о языке»; вопреки здравому смыслу его пытались даже обвинить в «космополитизме»; он был «виноват» в том, что знал и ценил работы зарубежных ученых и не считал себя вправе обходить их молчанием в своих исследованиях. Условия жизни, в которых В. В. Виноградов работал в 20-ых, 30-ых, 40-ых гг., были далеки от тех, которые способствовали бы творческому труду: ученый часто не имел даже бумаги и писал на клочках оберток, на обрывках школьных тетрадей.
После смерти В. В. Виноградова его жена Н. М. Малышева собрала, в числе других рукописей, оставшиеся во многих папках разрозненные материалы, касающиеся истории слов; ее горячим желанием было увидеть монографию опубликованной. Но с оставшимися материалами, даже просто для их расшифровки и прочтения, нужна была очень большая работа; некоторую ее часть в 70-ых гг. проделала Г. Ф. Благова: ею вместе с библиографом Л. М. Радкевич и при участии вдовы академика Н. М. Малышевой были предварительно обработаны около 130 статей (см. об этом в статье Г. Ф. Благовой «Архивные материалы акад. В. В. Виноградова по истории русских слов и выражений» // Филологические науки, 1977, № 5). В середине 80-ых гг. к систематизации материалов и к подготовке монографии приступила группа русистов-лексикологов, которые были учениками В. В. Виноградова или его ближайшими сотрудниками; в эту группу и вошли редакторы-составители предлагаемой читателю книги. В течение нескольких лет разбирались и систематизировались все сохранившиеся материалы: карточки с выписками, рукописи, оттиски статей и заметок, опубликованных в теперь уже далекие годы. Был проверен (к сожалению, не полностью — из-за малодоступности источников, а также часто из-за неточности, по памяти, цитации) библиографический аппарат и основной массив цитат.
В архиве В. В. Виноградова сохранились машинописные тезисы, позволяющие осмыслить ту концепцию и те планы, по которым он предполагал построить свою будущую книгу2. Эти тезисы (предположительно конца 40-х годов) под названием «Из истории лексики русского литературного языка XVIII — XIX вв.» воспроизводятся полностью вслед за предисловием.
В 1946 г. в «Научном бюллетене ЛГУ» (1946, № 6, с. 16—18) В. В. Виноградов опубликовал авторскую аннотацию монографии под названием «Материалы и исследования в области исторической лексикологии русского литературного языка». (В рукописном архиве название будущей книги, написанное на ветхом листке бумаги, звучит иначе: «Из истории русской мысли и русского слова. Очерки русской исторической лексикологии»). Здесь автор кратко изложил общую концепцию и план будущей книги, посвященной истории русской лексики. Предполагалось, что книга будет состоять из 9 следующих глав: глава первая «Задачи исторической лексикологии»; глава вторая «Проблема слова и значения как объект историко-лексикологического исследования»; глава третья «Лексический состав русского литературного языка с исторической точки зрения»; глава четвертая «Основные проблемы изучения народной лексики в составе русского литературного языка»; глава пятая «Описание наиболее типичных семантических процессов, характеризующих формы и способы воздействия народно-поэтической, народно-областной и жаргонно-профессиональной лексики на словарь русского литературного языка»; глава шестая «Основные проблемы изучения так называемых славянизмов в составе русского литературного языка»; глава седьмая «Основные семантические процессы, характеризующие историю старославянских, позднейших югославянских и славянорусских элементов лексики в структуре русского литературного языка»; глава восьмая «Основные задачи изучения заимствованных слов в составе русского литературного языка»; глава девятая «Главные семантические процессы, характеризующие историю заимствованных слов на почве развития русского литературного языка».
При подготовке настоящего издания составители пытались расположить материал в соответствии с этим планом. Но осуществить это оказалось практически невозможным: с одной стороны, в сохранившихся материалах отсутствовали какие-либо фрагменты, указывающие как на общую организацию книги, так и на связь ее будущих глав; с другой стороны, в большинстве главок и заметок оказались тесно переплетенными сюжеты, которые, согласно изложенному автором плану, должны были бы быть разнесены по разным разделам. Поэтому составителями книги была избрана такая композиция, в которой материал внутри ее трех основных частей располагается по алфавиту слов и выражений и таким образом предстает в виде исследовательских статей своеобразного историко-культурологического лексикона. Книга состоит из трех частей: в первую часть вошли относительно законченные статьи и заметки — как опубликованные, так и неопубликованные; вторая часть включает незаконченные этюды, наброски, выписки и сопровождающие их замечания. Все материалы, вошедшие в две первые части книги, сверены с рукописями; если рукопись оказывалась полнее опубликованного варианта, такие пополнения вносились в публикуемый здесь текст. Третья часть книги содержит материалы, специально выбранные из опубликованных трудов В. В. Виноградова и относящиеся к истории отдельных слов и фразеологизмов, а также к истории целых серий слов. Эти материалы неравноценны: с одной стороны, это относительно законченные фрагменты, свободно включаемые автором в контекст работ по словообразованию, грамматике, поэтике, языку писателей, с другой стороны — отдельные краткие заметки, попутно сделанные замечания. Естественно, что те сведения, которые получает здесь читатель, не могут считаться ни исчерпывающими, ни даже относительно полными; однако и они представляют большой интерес и, собранные вместе, проливают свет на те пути, по которым шло развитие русской лексической системы. Все материалы для третьей части книги извлечены из трудов В. В. Виноградова Л. Л. Агафоновой; те фрагменты, которые являются дополнительным материалом к словам, вошедшим в первую и вторую части книги, приводятся там в комментариях составителей. При обработке материалов для третьей части книги сведения, сообщаемые автором в подстрочных примечаниях, внесены в основной текст. В первых двух частях книги, в некоторых случаях также в третьей ее части публикации сопровождаются кратким комментарием редактора-составителя. В конце книги читатель найдет алфавитный указатель слов и выражений, упоминающихся во всем корпусе книги — как в заглавиях статей, так и в их тексте.
Книга открывается не публиковавшейся ранее и обнаруженной в архиве статьей В. В. Виноградова «Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования».
Составители надеются, что их труд не только найдет заинтересованных читателей среди лингвистов и широкого круга общественности, но и явится данью памяти ученому, вся жизнь которого была служением науке о языке и словесности, о творческом духе русского народа.
Н. Шведова
1994 г.
В. В. Виноградов
Из истории лексики русского литературного языка XVII — XIX вв.
1. Исследование истории значений отдельных слов еще не образует исторической семантики, хотя и доставляет для этой научной дисциплины ценный материал.
2. Для того, чтобы история значений слов литературного языка стала существенной частью исторической семантики его, необходимо тесно связывать исследование семантической истории слов с историей литературного словообразования и шире — с историей морфологических изменений литературного языка (иллюстрация — семантическая история слов: мракобесие, царедворец, кругозор и др.).
3. Исследование истории значений слов русского литературного языка помогает глубже осознать лексико-семантические связи и взаимодействия литературного языка с русскими народно-областными говорами и другими славянскими языками. Разнообразие этих связей и взаимодействий ярко отражается в истории таких слов, как отщепенец, никчемный, завзятый, охрана и т. п.
4. Исследование семантической истории литературных слов создает базу для историко-идеологического словаря русского литературного языка. Изучение истории значений слова должно быть связано с историей тех семантических рядов, в которые вступает или с которыми сближается это слово в процессе своих смысловых изменений (ср. историю слов: передовой — отсталый с 40-х годов XIX в., новшество в XVII и XIX вв., пошлый с XVIII в. и т. д.).
5. В истории значений отдельных литературных слов отражается история стилей русского литературного языка. Поэтому исследование семантических изменений литературной лексики должно носить историко-стилистический характер (ср. семантическую историю слов — светоч, треволнение, мыслитель и др.).
6. Изучение семантической истории «заимствованных» слов, связанное с сравнительно-историческим исследованием судьбы их в других языках, в том числе и в родном для них языке, содействует открытию семантических своеобразий русского литературно-языкового процесса (ср. историю значений слов: факт, паллиатив, игнорировать и др.).
7. В семантической истории отдельных слов отражаются сложные процессы взаимодействий личности и коллектива в сфере духовного творчества (ср. историю слов и выражений: отсебятина, кисейная барышня и др.).
В. В. Виноградов
Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования
I
Строй языка определяется взаимодействием его грамматики и лексики. И в той и в другой выступают, как органический элемент языковой структуры, ее фонетические свойства и фонологические качества. Между грамматикой и лексикой тесная связь и соотношение. Так же, как принято говорить о грамматическом строе языка, следует говорить о его лексическом строе. Однако лексикология еще не может представить таких глубоких и разносторонних обобщений и выводов из своих исследований, как наука о грамматическом строе разных языковых систем и типов. Это несоответствие отчасти объясняется тем, что история лексического строя многих языков почти вовсе не изучена. Так, можно решительно утверждать, что историческая лексикология русского языка вообще, а литературного, в частности, еще только в зародыше. Вместе с тем для построения исторической лексикологии любого языка, в том числе и русского, необходимо установить более точные и определенные методы исторического исследования лексической системы и слова как элемента этой системы. Попытки систематизировать и свести основные семантические процессы в истории словаря к некоторым общим категориям и закономерностям до сих пор не увенчались успехом. Поэтому в современной западноевропейской лингвистике иногда раздаются скептические уверения, что при настоящем состоянии науки о языке строго научная классификация семантических изменений слова даже невозможна1. Между тем мышление находит свое выражение и отражение в словаре так же, как и во всем строе языка. Знание идеологии социальной среды на той или иной ступени общественного развития само по себе еще не ведет прямым путем к пониманию семантической системы языка этой среды. Идеология и язык не являются зеркальными отражениями друг друга. Известно, что в языке, наряду с отражением живых идей современности, громадную роль играют унаследованные от прошлого — иногда очень далекого — технические средства выражения. К тому же о мировоззрении давних или древних эпох обычно у историков культуры складывается или односторонне искаженное, или чересчур абстрактное представление. Мир значений, запечатленный в формах языка, имеет в разных системах свои законы связей, свои принципы построения. Наконец, для изучения истории даже отдельных слов необходимо воспроизвести полностью контексты употребления этих слов в разные периоды истории языка, а также разные виды их связей и соотношений с другими лексическими рядами. А это — цель почти неосуществимая. Вот почему Б. М. Энгельгардт остроумно отнес изучение истории отдельных слов к «заумному» плану исследования2. Но, понятно, иллюзия охвата некоторого идеологического единства может сохраняться и при таком методе изучения истории изолированных слов.
Слова, идеи и вещи должны изучаться как аналогические и взаимодействующие ряды явлений. Но соотношение между ними — сложное. В истории материальной культуры функции и связи вещей меняются в зависимости от контекста культуры, от ее стиля. Формы мировоззрений также эволюционируют, и едва ли воспроизведение идеологических систем прошлого возможно без помощи лингвистического анализа. Язык — это не только средство выражения мысли, но и форма ее становления, орган образования мысли (как говорил Гумбольдт) — и вместе с тем сама сформировавшаяся мысль. Историческое изучение словаря невозможно без знания истории материальной и духовной культуры, но оно не должно состоять в механическом сцеплении фактов быта и мировоззрения с формами языка. Конечно, для понимания строя лексической системы, свойственной тому или иному периоду в развитии языка, необходимо знание типов мышления, свойственных разным эпохам, необходимо отчетливое представление исторических законов связи понятий и значений. Но тут получается своеобразный заколдованный круг. Открытие закономерностей в исторических изменениях форм и типов мышления невозможно без изучения истории языка, и между прочим, истории слов и их значений. История же языка, в свою очередь, как научная дисциплина, немыслима без общей базы истории материальной и духовной культуры и прежде всего без знания истории общественной мысли. В настоящее время частые провалы и блуждания на этом пути неизбежны. Достаточно сослаться на отсутствие разработанной семантической истории таких слов, как личность, действительность, правда, право, человек, душа, общество, значение, смысл, жизнь, чувство, мысль, причина. Правда, выяснению причин и условий семантического развития лексических систем помогает знание общих этапов и направлений истории языка в целом. История значений слова может быть воспроизведена лишь на широком фоне истории семантических систем данного языка. Еще в 90-х годах XIX в. М. М. Покровский отстаивал этот тезис: «Отдельные явления языка вполне понятны нам лишь тогда, когда мы будем изучать их не только в связи с теми специальными категориями, к которым они принадлежат, но, по возможности, и в связи с общим развитием» (Покровский, с. 19). Определение общих тенденций языкового развития в ту или иную эпоху содействует хронологическому приурочению отдельных семантических процессов в области лексики. Точно так же А. Мейе уже давно, еще в своей вступительной лекции к курсу сравнительно-исторической грамматики, заявил: «Языковые изменения могут быть вполне понятны лишь тогда, когда их рассматривают во всей совокупности развивающихся явлений, часть которых они составляют. Одно и то же изменение получает совершенно различный характер, смотря по процессу, который оно производит. Никогда нельзя пытаться объяснить известную частность без рассмотрения общей системы языка, в котором она является»3. О трудностях определить значения слова в далекую от нас эпоху и истолковать его употребление даже в известном кругу примеров писали многие лингвисты. Л. В. Щерба заметил: «Значения слов эмпирически выводятся из языкового материала. (...) Но в живых языках этот материал может быть множим без конца, и в идеале значения определяются с абсолютной достоверностью; в мертвых же языках он ограничен наличной традицией. При этом для одних значений его более чем достаточно, для других его мало, и каждый случай употребления данного слова может оказаться в той или другой степени ценным для разных выводов. И далее, в живых языках каждый, произвольно множа случаи употребления данного слова, может проверить выводы составителя словаря относительно значения данного слова; в мертвых языках для проверки нужно знать все наличные случаи употребления»4. Но и этого мало: значения слова и круг его употребления обусловлены лексической системой языка.
Слова на той или иной стадии развития образуют внутренне объединенную систему морфологических и семантических рядов в их сложных соотношениях и пересечениях. Отдельные слова, как смысловые структуры, существуют лишь в контексте этих систем, в их пределах они обнаруживают по-разному свои смысловые возможности. Все слова в составе лексической системы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Они соотнесены друг с другом и непосредственно как члены одного и того же семантического ряда, и опосредствованно как звенья параллельных или соприкасающихся семантических рядов. В сущности полное раскрытие смысловой структуры слова, т. е. не только его вещественного отношения, но и целостного «пучка» его значений, всех его грамматических форм и функций, его экспрессивных и стилистических оттенков, строя его «внутренних» форм возможно лишь на фоне всей лексической системы и в связи с ней. Лексические системы, например, русского языка в разные периоды его истории нам неизвестны. Они не исследованы и не реконструированы. Общие закономерности их смены, исторические процессы, управляющие изменениями русской литературной семантики еще не открыты. Несомненно, что только при полном воспроизведении исторически сменяющихся или изменяющихся систем языка может быть воссоздана вся картина изменений значений и оттенков слова. В обычном же представлении история слова охватывает лишь небольшие отрезки, клочки общей истории языка. Она касается только единичного языкового факта и смежных явлений. Чаще всего история слова изображается как изолированный процесс, совсем оторванный от общих закономерностей исторического развития данного языка. Итак, противоречие между разнообразием живых смысловых связей и отношений слова в конкретных системах языка разных периодов его истории и между абстрактной прямолинейностью реконструируемого семантического движения слова — вот первая антиномия историко-лингвистического исследования значений слова.
Для истории слов приобретает громадную важность принципиальный вопрос о единстве смысловой структуры развивающегося и меняющегося слова или — что то же — вопрос о тожестве слова при многообразии его смысловых превращений. Когда изучается семантическая система языка в ее современном состоянии, то внутреннее содержание, смысловой объем слова, его строй и границы выступают на фоне всей совокупности смысловых соотношений. Слово понимается как элемент организованного целого, как член смыслового единства языка в целом. Не то — в истории языка. Слова двигаются и меняются вместе со всем языком. Изменения в общей системе отражаются на употреблении и значении отдельных слов. Между тем исследователю истории слов и значений приходится извлекать слова из исторического контекста и рассматривать их в изоляции от окружающей их семантической сферы. Слово как бы продергивается сквозь разные языковые слои, которые оставляют на нем, на его значениях, следы своих своеобразий. При таком изучении полнота значений и оттенков слова, вся широта его употребления в разные периоды истории языка невосстановимы. Те смысловые нюансы, которые окрашивают слово в разнообразных стилях его употребления и в разные времена, стираются. Слово раскрывается как отдельный исторический факт, который как бы самостоятельно развивает заложенные в нем потенции семантических изменений. Правда, при этом предполагается как фон некоторая общая последовательность языковых процессов и культурно-исторических изменений в быту и идеологии, отражающихся и на значениях слова. Здесь вырастает неустранимая опасность перенести принципы понимания, свойственные одной эпохе, на другую, далекую от нее. Путь от идеологии и быта к языку — путь не прямой, а очень извилистый.
Палеонтологическое и даже вообще историко-этимологическое изучение слова не должно быть отождествляемо и смешиваемо с изучением историко-лексикологическим. Вынесенное за пределы языковой системы, слово становится исторической абстракцией, которая объединяет все ответвившиеся от нее конкретные исторические факты. Оно, в сущности, перестает быть соотносительной единицей лексической системы, а становится отвлеченным морфолого-семантическим элементом, «корнем» многочисленной словесной поросли или сцеплением корней. С этимологической или палеонтологической точки зрения слово, как конкретно историческая данность, либо вовсе игнорируется, либо остается на заднем плане, в тени. Этимология воссоздает генезис и дальнейшее бытие или бытование морфологической, а не лексической единицы. Поэтому под знаком этимологического исследования одного языкового элемента она объединяет многие слова, иногда целое «гнездо» слов. Не то — в исторической лексикологии. Здесь отыскиваются законы изменения значений слов, как индивидуальных конкретно-исторических единств, как членов семантически замкнутых и исторически обусловленных лексических систем. Насколько пестры и разнообразны могут быть этимологические домыслы о составе и образовании слова — при отсутствии точных представлений об истории его значений, показывает «ученая судьба» слова полоумный5.
Этимология, оторванная от реальной истории слова-вещи, теряет под собой твердую социально-бытовую почву и превращается в пустую игру воображения. Примером могут служить разные этимологические объяснения слова подушка. Миклошич, Богородицкий и Преображенский готовы были видеть в этом слове приставку под-, а вторую часть его связывать с ухо (см. Преображенский, 2, с. 87). Проф. Р. Ф. Брандт производил это слово от предполагаемого корня *под- в значении `подкладывать'. Berneker возводил слово подушка к корню дух, душа. С этой этимологией соглашался и Г. А. Ильинский (см. Ильинский, Звук ch, с. 29). М. О. Коген считал возможным признать это слово заимствованным из турецкого или татарского (ср. сербск. дýшек — `матрац')6. Понятно, что вне истории слова подушка ни одна из этих этимологий не будет иметь ни малейшей убедительности. Примером могут также служить гипотезы о происхождении русского слова кондрашка в значении `нервный удар, паралич'. Историк С. М. Соловьев и этнограф С. Максимов, обнаруживавший пристрастие к русской старине, старались связать происхождение этого слова с именем Кондратия Булавина и с поднятым им восстанием (отсюда будто бы и пошло выражение: кондрашка хватил). Никаких конкретных данных в пользу этого толкования не приводилось. М. Р. Фасмер (Греко-слав. этюды, 3, с. 91) — в силу своей специальности эллиниста — стремился как-нибудь «прицепить» это слово к старослав. кондратъ, древнерусск. кодрантъ из греч. κοδράντης — `род мелкой монеты'. Тут припомнилось и имя Кондрата и диалект. новгородск. кондрáт — `сотоварищ, собрат', допускалась даже контаминация с немецк. kamrat! А. Г. Преображенский резонно заметил: «Но от ”собрата“ до паралича далеко!» (Преображенский, 1, с. 345). Или: что может дать, например, исследователю истории слова салазки справка в словаре Преображенского? Оттуда он узнает, что Горяев сближал «это слово с слизкий (см. склизок), чеш. slzký и проч.», что Преображенский считал более вероятным сопоставлять с лазать, слазить в значении `спускаться, скатываться вниз', а начальное са- объяснять контаминацией с сани. А впрочем, все это, по скромному признанию автора, «гадательно» (там же, 2, с. 246). Вернее сказать: просто невероятно. К истории значений слова все эти фантастические домыслы не имеют никакого отношения. Еще менее историчны такие размышления Преображенского по поводу глагола коверкать: «Не заимствовано ли из немецкого werk или wirken? Впрочем, если и допустить это, то неясным остается преф. ко-» (там же, 2, с. 327). Между тем, слово коверкать и производные от него коверкала, коверкаться, исковеркать, перековеркать и т. п. широко распространены в областных народных говорах [ср. угличск.: у! коверкало непутное — все исковеркал (Шляков); Эдак ведь она коверкает пироги-то, на что они и похожи (Н. Попов) и др. под.]. По-видимому, больше всего это слово распространено в север-норусском наречии. В литературном употреблении оно известно с XVIII в. Например, у М. Д. Чулкова в «Русских сказках» (Чародей) «коверканьем своим очаровал, что его невидимый огонь опаляет». В «Российском феатре» (ч. 35, с. 299): «многие женщины усмотрят в лицах больше коверканья, нежели приятности». У А. Т. Болотова в «Записках» (1871, 1, с. 712): «Не успел он выпить, как начало его мучить и коверкать, и ровно так, как бы находился он в припадке». Ср. У Кирши Данилова в стихотворении «Про дурня»: «Схватал ево, дурня, Стал его бить, Костылем коверкать И костыль изломал весь». М. П. Веске в исследовании «Славяно-финские культурные отношения по данным языка» (Казань, 1890) относил слово коверкать к числу финских заимствований в русском языке (с. 96 и след.). Против этого не возражал и акад. А. И. Соболевский (см. Живая старина, 1890, вып. 1, с. 6).
Сомнительно этимологическое обоснование связи слова суслик с глаголом сосать. «Кроме русского языка, это слово известно еще в словенском: sûslik. Оба эти имени представляют deminutiva от прасл. *susolъ, которое сохранилось в русск. диал. сýсоль. С другой вокализацией корня и в другом значении это слово употребляется в болгарском языке съсел `крыса'; тождественно с русским по значению, но также отлично от него по вокализму чешское sysel и его deminutivum syslik `Zieselmaus'. Так как животные, которые в славянских языках обозначаются этими названиями, принадлежат к отряду грызунов, то я не вижу оснований отделять от этих слов известный корень sъs = `сосать' (дрцсл. съсати, срб. сäти, слв. sesáti, чш. sesáti, русск. сосать). Как это делает Фр. Миклошич (см. Miklosich, 1886, s. 355): ведь «сосание» и «грызение» на практике нередко бывают невозможны одно без другого, и поэтому нет ничего удивительного, что славяне назвали суслика по первому из этих двух характерных признаков. До известной степени эта этимология подтверждается белорусским суслик `сосущее дитя', рядом с которым употребляется и глагол суслиць `сосать' (Ильинский Г. А. Славянские этимологии // Zbornik u Slavu Vatroslava Jagiča. Berlin, 1908, с. 293).
Границы этимологических толкований слова узки. «Этимология в первую голову есть объяснение слов при помощи установления их отношений с другими словами. Объяснить — значит свести к элементам уже известным, а в лингвистике объяснить слово — значит свести его к другим словам, ибо необходимого отношения между звуком и смыслом не существует»7. Правильная этимология раскрывает лишь мотивы зарождения слова и первые шаги его социального бытования. Но и в этих случаях этимологические разыскания чаще всего направлены на открытие генезиса лишь тех слов, которые лежат в основе многочисленной лексической группы производных образований. По существу своему этимология не имеет ничего общего с определением понятия и даже с определением первоначального значения слова. Этимологическое объяснение слова в большинстве случаев вовсе не является раскрытием предмета, обозначаемого словом. Понятно, что для правильного и продуктивного применения этимологического метода, кроме знания системы историко-фонетических соответствий между языками, опирающегося на сравнительно-историческую грамматику, кроме знания истории духовной и материальной культуры, лингвистической географии слов, необходимы также ясные и точные сведения по истории морфологического состава языков, по истории разных моделей и типов словообразования. Этимология, объясняя отдельные слова, редко сопровождает анализ их корневых элементов теорией их формативов, префиксов, суффиксов.
В истории русского языка (а также и в истории других славянских языков) эволюция словообразования почти совсем не изучена. И это обстоятельство создает большие трудности для надлежащего синтеза этимологических и историко-семантических исследований в области лексикологии. Например, у Преображенского под словом кубарь читаем: «без сомнения, к куб. Суффикс -арь, как в сухарь» (1, с. 703). М. О. Коген по этому поводу недоумевал: «Что общего у этих слов, кроме случайного созвучия?» (Изв. ОРЯС АН, 1914, т. 19, кн. 2, с. 296). Ф. Е. Корш предлагал выводить русское кубарь из к@барь через посредство греческого κομβάριοv от κóμβος `cка', предполагая здесь смешение с κουβάρι(οv) — `клубок, моток'8.
Слово кустарь одни возводят к немецкому Künstler, другие сопоставляют с куст. По мнению Когена, оно «первоначально могло обозначать `ремесленника, занимающегося обработкой кустов'» (указ. соч., с. 297).
Морфологический состав слова нередко изобличает его происхождение и указывает на пути его социальных странствований. Например, кроме слова вотчим, малоупотребительного побратим, а также любимец и родимый, суффикс -им может быть выделен еще в таких трех словах русского литературного языка: нелюдим, подхалим и проходимец. Они все возникли в живой народной речи. Из них раньше всего вошло в литературный оборот слово нелюдим. Оно было употребительно уже в литературном языке XVIII в. и стало особенно распространенным в 20—30-х гг. XIX в. (см. у Пушкина, Н. Полевого и др.). Слова подхалим и проходимец проникли в литературную речь гораздо позднее: проходимец — около середины XIX в. (в 40-е годы) (это слово не зарегистрировано в словаре 1847 г., но Даль считает его общерусским), а подхалим — во второй половине XIX в., не раньше 60—70-х годов. Показательно, что Даль рассматривает слово подхалим как областное, нелитературное: «Подхалим или подхалима, м. твр. кстр. прм. льстивый попрошайка, пролаз, плут и лукавец». И. А. Бодуэн де Куртенэ в 3-ем изд. словаря добавил: «Подхалим — скупец, костр. Подхалимистый — лукавый, плутоватый, тврск. Оп.». Очевидно, все эти слова — отпричастного образования (ср. нелюдимо наше море, человек нелюдимый; ср. непроходимый). Но было бы ошибочно применять к осмыслению первоначальных функций этих слов, к их этимологическому значению те нормы употребления, которые свойственны современному литературному языку. Ведь то, что мы называем страдательным причастием на -мый (-мый/ -имый), могло в эпоху образования этих слов выражать и так называемые действительные значения. Поэтому в корне ложны такие рассуждения М. Г. Долобко: «Я не могу указать инославянских соответствий для этих русских образований» — и сверх того, — «мы не знаем, как они древни. Rebus sic stantibus мы можем строить более или менее вероятные предположения. Все эти слова могут быть признаны страдательными причастиями. Первоначальное значение нелюдима было бы `тот, кого не любят, не выводят в люди', хотя я и не могу указать в славянских языках деноминатива (т. е. глагола, образованного от имени существительного) *ljuditi. Первоначальное значение проходимца (образование про-ход-и-м-ьцъ — такое же, как люб-и-м-ьцъ) было бы `тот, кого (презрительно) проходят'. Наконец, подхалим стоит в этимологическом родстве с хол-и-ти и (в более близком, по ступени вокализации корня) с болгарск. о-хал-ен — `живущий в довольстве', русск. на-хал, нахальный (о которых см. Г. Ильинский. Изв. 20, 4, 142 сл. — с литературой); первоначальное значение подхалима было бы тогда, при допущении глагола — подъ-хал-и-ти — `подбаловываемый' (да простит мне читатель это образование!)»9. Не нужно много распространяться, что эти этимологические предположения маловероятны. Достаточно для слова проходимец указать на параллели: пройдоха, областн. пройда, пролаза, проныра. Ср. также у Даля: «Проходень, м. црк. скиталец, бродяга, проходим, проходимец, проходимка в значении: странник, путник, особ. идущий на поклонение, паломник» (1907, 3, с. 1372). Ср. также здесь: «Проходец — бывалец, землепроходец, испытавший, видевший много, путешественник». Очевидно, в проходимец пассивное и активное значение еще не дифференцированы.
Однородность морфологической структуры слов еще не говорит об одновременности их происхождения и об одинаковости их семантической истории. Например, слова — засилье, насилье и усилье имели в русском литературном языке совсем разную судьбу. Усилие — старославянизм по своему происхождению. Его значение `труд, напряжение силы для осуществления, достижения чего-либо' приобрело лишь более абстрактный и логически определенный характер (см. Срезневский, 3, с. 1265), но не подверглось ни коренной ломке, ни словесным разветвлениям в истории русского литературного языка. Почти то же можно сказать и об истории слова насилие, правда, более разнообразного по своим значениям и оттенкам. Это слово — тоже книжное (см. в Изборнике 1073 г.). Но оно рано укоренилось в государственном, деловом языке (см. в Договоре Олега 911 г., в Летописи, в грамотах, в Слове о полку Игореве) (там же, т. 2, с. 330). Его основное значение — `притеснение, принуждение, применение силы'. Понятно, что это значение в связи с изменением правовых норм обслаивалось новыми смысловыми оттенками (см., напр., такой оттенок значения, как: `беззаконное применение силы, злоупотребление властью'). Кроме того, слово насилие вступило в синонимическое соотношение с более поздним книжным словом изнасилование. Совсем иными путями двигалось слово засилье. Оно было чуждо русскому литературному языку XVIII и первой половины XIX в. Оно даже не регистрировалось ни словарями Академии Российской, ни словарем 1847 г. Его нет и в словаре Даля, хотя тут помещены глаголы: засиливать — `заставлять силою, против воли', засилиться — `усиливаться' и засилить — `поймать силком из рук, накинув силок'. Только в словаре А. А. Шахматова приведено слово засилие и обрисован круг его значений. Здесь указываются два значения (те же, что внесены затем и в словарь Ушакова): 1) Сила, влияние, власть, насилие. 2) Достаток, богатство. Очевидно, что второе значение так и остается народно-областным, хотя оно иллюстрируется примером из «Благонамеренных речей» Салтыкова-Щедрина: «Да и засилья настоящего у мужиков нет — все в рассрочку да в годы». Основное литературное значение этого слова — `преобладающее влияние' установилось не ранее 50—60-х годов XIX в. и также вышло из народной речи. В. И. Чернышев приводит такую фразу из подмосковных народных говоров: «Как засилие возьмет человек, — што ты с ним сделаешь». В этом значении слово засилие отмечено в языке Салтыкова-Щедрина и Мамина-Сибиряка. Контекст употребления этого слова, распространившегося в газетно-публицистических стилях конца XIX в., сильно изменился. Ср., напр., у Мамина-Сибиряка в романе «Золото»: «Он зла-то не может сделать, засилья нет» или у Салтыкова-Щедрина в «Мелочах жизни»: «Ах, кабы мне... вот хотя бы чуточку мне засилия... кажется бы, я...». В стилистической окраске слова засилье и до сих пор чувствуется ощутительный отголосок разговорной речи. Оно менее «книжно», чем усилие и насилие. На нем лежит яркая печать его устно-народного бытования.
Этимология слов не только ýже, ограниченнее истории слов, но может быть и очень далека от этой последней. В самом деле, для этимологии центр тяжести — в родословной слова, в происхождении его элементов, в их генезисе. Этимология устанавливает, по выражению Ж. Вандриеса, — «послужные списки слов, выясняя откуда каждое из них пришло в данный язык, как оно образовалось и через какие изменения прошло»10. При всестороннем исследовании этих проблем вопрос об изменениях смысла и употребления слов не является чуждым этимологии. Но этимология меньше всего способна раскрыть все разнообразие смысловых изменений, переживаемых словом в разной социальной среде и в разные эпохи. Последовательность и ход изменения значения слова, разъяснение тех реальных исторических условий, в которых протекали эти изменения, остаются по большей части за пределами этимологического исследования. Кроме того, этимологический анализ нередко возводит слово или его основные значения к истокам их жизни, предшествующим образованию данного языка. В этом случае этимология выступает далеко из рамок истории того или иного языка и истории слов, мыслимой в границах изучаемого языка. Будучи исторической наукой, этимология дает лишь материалы для истории культуры. Но она не стремится установить по данным языка закономерную последовательность всех этапов духовного или материального развития каждого народа в любой сфере быта и познания.
Понятие семантических закономерностей в области этимологии обычно сводится или к принципу смыслового параллелизма между явлениями разных языков, или к методу аналогий между разными языками. Например, О. Грюненталь в «Этимологических заметках» возводит русское пьнь к тому же корню, что пята, выпятить, пнуть, пинать, пинок и т. п., и подкрепляет это заключение цепью иноязычных параллелей (см. Изв. ОРЯС АН, 1913, т. 18, кн. 4, с. 135—136, 147). Тот же метод сопоставления параллельных смысловых рядов в ближайше родственных языках применялся и И. А. Бодуэном де Куртенэ в «Лингвистических заметках и афоризмах. По поводу новейших лингвистических трудов проф. В. А. Богородицкого» (см. ЖМНП, 347, 1903, май, с. 22).
История слов на протяжении многих веков может быть вовсе отделена от этимологии. Можно следить за историческими судьбами слова с любого момента его жизненного пути. Вместе с тем, этимология, в сущности, как уже сказано, имеет дело не со словом, как исторической реальностью, как членом живой языковой структуры, а с семантической фикцией, условно принимаемой за этимологический центр разных слов. Этимология изучает перемещения этого воображаемого центра во времени и пространстве и связанные с этим изменения его функций. А. А. Потебня заметил: как один из членов рода «хотя может служить посылкою к заключению о свойствах родоначальника, никаким чудом не станет понятием об этом родоначальнике. Подобным образом и корень как отвлечение заключает в себе некоторые указания на свойства корня как настоящего слова, но не может никогда равняться этому последнему. Странно было бы утверждать, что родоначальник живет в своем потомстве, хотя бы и не ”сам по себе“, а в соединении с чем-то посторонним» (Потебня, Из зап. по русск. грамм. 1958, с. 16). Верно и то, что этимология отдельного слова не представляет ценности сама по себе. Она имеет значение для лингвиста лишь как опора общего положения, общего вывода (см. об этом Ж. Вандриес, Указ. соч., с. 183—184). Этимология лишь тогда получает твердый научный фундамент, когда она вливается в историческую лексикологию или историческую семантику. В этом случае этимологическое исследование слов расширяется до пределов историко-семантического. По остроумному выражению Шухардта, такая этимология есть не что иное как сокращенная история слова (SchuchardtBrevier, s. 105). В судьбах слов раскрываются законы изменения значений — на разных стадиях языка и мышления — со всеми социально-обусловленными отклонениями в развитии отдельных цепей явлений. Но стоит лишь сузить границы этимологического изучения, и сразу же обнаружится резкий разрыв между этимологией и историей значений слова11.
В отличие от этимологии для истории значения слов, для исторической лексикологии представляют интерес все конструктивные элементы слова, все оболочки его смысловой структуры и все моменты семантического развития слова. Историко-лексикологическое изучение слова предполагает точное знание его семантических границ в разные периоды развития языка. Границы слова определяются его функциями в составе фраз и его местом в общей системе языка. Отграничение слова от других соотносительных с ним языковых структур — равносильно определению слова, как исторической или диахронической единицы. Эта единица, не распадаясь на самостоятельные, обособленные объекты, может изменяться и в своей фонетической внешности, и в разных элементах своего смыслового строя, в формах своих фразеологических связей12.
Изучение исторических изменений слова относится к области применения проекционного метода. Слово выносится за пределы индивидуальных и коллективных языковых сознаний, языковых систем. Оно рассматривается как исторически данный объективный факт. Оно проектируется во-вне, как своеобразная реальная сущность, условно изолируется от конкретных языковых сознаний и языковых систем, как некая независимая в своем бытии «вещь». Эта «вещь» представляется непрестанно изменяющейся и в то же время неизменно тожественной. В самом деле, одни и те же слова — в каждом новом моменте своего исторического бытия — оказываются иначе распределенными и иначе понимаемыми в результате разыгрывающихся в языке событий. Но естественно, что и такое «диахроническое» изучение истории слова не может не сопровождаться хотя бы смутным представлением об исторических соотношениях его с другими словами и словесными рядами в рамках разных семантических систем. Полная изоляция слова от контекста его применения, от его разнообразных связей, от смежных, пусть и небольших участков семантической системы, невозможна. И все же семантические изменения слова в проекционном плане понимаются чаще всего на фоне всех изменений языковой системы в целом и не в связи с ними, а более или менее отрешенно, в отрыве от них. В этой невольной или вынужденной изоляции отдельного лексического факта заключается временный порок большей части современных историко-лингвистических исследований, а не органическая черта «диахронической лингвистики». Напротив, подлинный историзм неразрывно связан с широким охватом контекста эпохи или языковой системы в целом на разных этапах ее развития. Потому и для исторической лексикологии исследование истории значений слова и исследование истории целостных лексических систем — задачи соотносительные и взаимообусловленные. Чем шире и ярче в истории отдельных слов раскрывается история цельных лексических систем и отражаются основные тенденции их последовательных изменений и смен, тем история значений этих слов конкретнее, реальнее и ближе к подлинной исторической действительности. Проекционно-историческое изучение слова должно учитывать не только события во времени, но и пространственные изменения в жизни слова, которые, впрочем, тоже сводятся к моментам исторического движения слова. Здесь «для оправдания сближения двух форм достаточно, если между ними есть историческая связь, какой бы косвенной она ни была»13. Такое изучение является социально-историческим и вместе с тем, социально-географическим. Оно следит и за последовательными сменами и наслоениями значений слова в пределах одной социальной среды и за переходами слова из одного социального круга в другой.
История отдельного слова не случайное, а последовательное историческое звено в общих сдвигах семантических систем, хотя многие изменения здесь могут быть вызваны частичными причинами и непосредственно не затрагивать всех элементов языковой системы. Но тем больше опасности при изучении истории отдельных слов оторвать судьбу слова от живых и изменчивых конкретных процессов в истории языка и исказить ход семантических изменений. Такое искажение иногда вызывается внушениями современности, модернизацией языкового прошлого. В самом деле, насколько всеобщи, типичны, и на какое время действительны семантико-грамматические связи понятий? А ведь мы охотно готовы признать их однородными на протяжении всей истории русского языка. Так, значения действующего лица и орудия в русском языке легко совмещаются в одном слове. Например: истребитель, разведчик, распределитель. Но можно ли на этом основании объединять соответствующие значения в слове наушник, или же целесообразнее видеть здесь два омонима? У Ушакова указано лишь одно слово наушник с такими значениями: 1) Часть теплой шапки, закрывающая ухо. Шапка с наушниками. // Отдельный футляр из теплой материи, надеваемый на ухо. 2) Прикладываемый к уху или надеваемый на ухо прибор, соединенный с звукопередающим аппаратом. 3) Тот, кто наушничает (разгов. презрит.). Однако естественный языковой инстинкт противится такому объединению разных значений и обозначений разных предметов. Для современного сознания здесь два разных слова. Длинная цепь производных связана с наушником в значении лица: наушничать, наушничество, наушнический, женск. наушница. Наушник как предмет связывается нами лишь с прилагательным наушный. Кроме того, для нас оба эти слова имеют совсем разные внутренние формы и различные экспрессивно-стилистические оттенки: наушник нашептывает на ухо кому-нибудь тайком разные доносы, сплетни, клевету; совсем иное дело наушник, надеваемый или натягиваемый на уши. Тут два разных морфологических и лексико-семантических омонима. Но всегда ли соответствующие сферы значений были резко разграничены? Слово наушник, хотя и не отмечено у Срезневского, но едва ли возникло позднее XVI — XVII вв. См. в «Истории о Петре I» Б. И. Куракина: «Филат Шанской ... сей пьяный человек, и мужик пронырливый, употреблен был за ушника, и при обедах, будто в шутках или пьянстве, на всех министров рассказывал явно, что кто делает и кого обидят, и как крадут» (Русск. старина, 1890, октябрь, с. 255). С этим же звуковым комплексом наушник уже в XVI — XVII вв. могли сочетаться столь различные значения как: 1) Тайный клеветник, наговорщик; 2) Лопасть у шапки или шлема, покрывающая ухо; 3) Кусок плотной (шерстяной) ткани, для предохранения ушей от действия сильных морозов (Сл. 1867—1868, 2, с. 874). Были ли эти значения решительно дифференцированы и относились ли они и тогда к двум разным омонимам? Ведь смысловой объем слова прежде мог быть шире, и соотношение «внутренних форм» разных значений иначе направлено. Логические границы отдельных значений могли быть менее четкими и определенными. Во всяком случае без исторического исследования ответ на этот вопрос не может считаться предрешенным.
II
Для исторической лексикологии, для истории значений слов и словесных рядов, для истории лексических систем имеет громадную важность вопрос о единстве смысловой структуры развивающегося и меняющегося слова или иначе: вопрос о пределах тожества слова при многообразии его фонетико-морфологических и предметно-смысловых превращений. Единство слова не исключает различия его конкретных проявлений. Тожество слова не зависит ни от фонетической неизменности слова, ни от морфологического однообразия его, ни от его семантической устойчивости. Равенство слов само по себе не создает их тожества. Итак, единство смысловой структуры слова и потенциальное многообразие его исторических разновидностей — вот новая антиномия историко-лексикологического исследования. Проблему тожества, как основную для науки о языке, выдвигал еще Ф. де Соссюр. «Весь лингвистический механизм, — по его словам, — вращается исключительно вокруг тожеств и различий, причем эти последние — только оборотная сторона первых»14. В синхронном аспекте тожество слова определяется его значимостью в системе целого. Языковое тожество похоже на тожество поезда, отходящего каждый день в одно и то же время, хотя фактически тут и паровоз и вагоны, и поездная бригада все может быть разное. Или оно похоже на тожество улицы, которая может быть уничтожена, застроена заново и все-таки остается все той же. Ведь «сущность, в ней заключающаяся, не чисто материальна; сущность ее основана на некоторых условиях, чуждых ее случайному материалу, как например, ее положение относительно других улиц... И вместе с тем эта сущность не абстрактна: ибо улицу или скорый поезд нельзя себе представить вне материального осуществления»15. Таково же и тожество слова. Понятие тожества здесь сливается с понятием значимости выражения в языковой системе. Слово как конь в шахматной игре. «В своей чистой материальности, вне своего места и прочих условий игры, он ничего для игрока не представляет, а становится он в игре элементом реальным и конкретным лишь постольку, поскольку он облечен своей значимостью и с нею неразрывно связан»16. Внутреннее обоснование значимостей сводится к обычаю и духовной деятельности данного коллектива — социальной группы, народа в целом. Вместе с тем совершенно очевидно, что самый акт смыслового превращения или осложнения слова не нарушает его тожества, так же, как ход коня не делает его новой фигурой. «Перемещение отдельной фигуры есть факт абсолютно отличный от предшествовавшего равновесия и от последующего равновесия. Произведенная перемена не относится ни к одному из этих двух состояний: значение имеют лишь состояния»17. Так, по Соссюру, в системе языка нет места изменениям, происходящим в промежутках между одним состоянием и другим. Вот почему Соссюр считает вопрос о диахроническом тожестве слова, т. е. о тожестве слова в его истории, только «продолжением и осложнением» вопроса о синхроническом тожестве. «Диахроническое тожество двух столь различных слов, как calidum и chaud попросту означает, что переход от одного к другому произошел сквозь целый ряд синхронических тожеств в области речи без того, чтобы связь между ними когда-либо нарушилась в результате последовательных фонетических трансформаций»18. Однако в действительности «совершенно невозможно, чтобы тожество было связано со звуком как таковым»19 и определялось в силу действия фонетических законов. Установление тожества обусловлено целой системой исторических соответствий — фонетических, грамматических, лексико-семантических, позволяющих распознать в двух различных формах одну и ту же языковую единицу. Нельзя сказать, чтобы анализ понятия о диахроническом тожестве у де Соссюра был очень глубок. Соссюр слишком узко и схематично понимает синхроническое тожество. Ведь в состоянии уже заложены потенции дальнейшего движения. Языковое состояние нельзя рассматривать механически как инертное и пассивное. В синхроническом тожестве слова есть отголосок его прежних изменений и намеки на будущее развитие. Следовательно, синхроническое и диахроническое — лишь разные стороны одного и того же исторического процесса. Динамика настоящего — порыв в будущее. Соотношение значений в современном употреблении слова, их иерархия, их фразеологические контексты и их экспрессивная оценка — всегда заключают в себе диахронические отложения прошлых эпох.
Тожество следует отличать от равенства. Ни первое еще не предполагает второго, ни второе первого. С одной стороны, предмет может называться тем же, каким он был прежде, хотя бы он за истекшее время подвергся значительным изменениям. Мы очень часто признаем тем же самым предмет, который изменился. С другой стороны, тожество предмета — не иллюзия, а объективный исторический факт. Иначе говоря, одинаковые слова — могут быть разными словами, омонимами (особенно в составе разных диалектов языка), а изменившееся слово чаще всего остается тем же единством. Тожество слова иного характера, чем тожество лица и вещи. Тожество вещей устанавливается через тожество понятий, а тожество личности — через единство ее самополагающей деятельности (см. об этом: Флоренский, с. 79). Слово более живуче, более долговечно, чем вещь и личность, и более изменчиво, чем они. При восприятии тожества слова — невольно возникает сопоставление слова с жизненным организмом. Это — своеобразная анимизация слова. С анимистической точки зрения реальное тожество объекта опирается на непрерывную одушевляющую его жизненность. Как только положен предел одухотворению объектов, подрывается и основа, на которой покоится анимистическое понимание тожества. Тожественность той языковой единицы, которая подвергается разнообразным — фонетическим, грамматическим и лексико-семантическим изменениям в процессе исторического развития, обычно устанавливается на основе современного представления о единстве структуры слова. Исследователь узнает то же слово в его разнообразных исторических видоизменениях так же, как он не сомневается в тожестве других исторических фактов или материальных вещей — при всем многообразии их исторических метаморфоз, напр., в тожестве обычая, поговорки, загадки и т. п. Но со словом и тут дело обстоит гораздо сложнее. Материальный субстрат слова — его внешняя форма — не только изменчив, но и обманчив. Дело в том, что число звуковых комбинаций в языке — особенно в древнейшие периоды его жизни — очень ограниченно. Следовательно, возможны частые совпадения в структуре или во внешнем изображении разных словесных знаков. Интонационные различия между однородными выражениями по отношению к древним стадиям языкового развития от нас скрыты. Поэтому опасность отожествления и произвольного объединения разных языковых знаков тут особенно велика. Ошибки и заблуждения этого рода встречаются на каждом шагу в этимологических исследованиях. Здесь они сказываются в утверждениях мнимых тожеств корней по признаку сходства и соответствия. Узнавание одного и того же слова, сохранение единства структуры слова вовсе не предполагает неизменности его внешнего облика. Больше того, при смешении двух близко родственных языков может произойти отожествление разных слов, если, укладываясь в систему воспринимающего языка, они совпадают фонологически и гармонируют, соответствуют друг другу семантически (ср. старосл. н@ждьный и русск. нужный; польск. kleczeć и русское народно-областн. из тюркск. клямчить, клянчить и др. под.). В историческом процессе внешняя форма слова может подвергнуться и почти всегда подвергается изменениям. Нередко эти изменения создают впечатление резкого скачка — настолько меняется фонетический облик слова. Например, из подшьва образуются почва и пошва (ср. подошва из подъшьва); греч. κυδώvιοv `дуля' (вид груши) и собств. имя Дуня; Феврония дает жизнь слову Хавронья; от Филиппа ответвляется Филя, простофиля (ср. Филькина грамота); Кирилл превращается в Чурилу и т. п. Таким образом, в истории языка как одно и то же слово, выражение рассматриваются разные объекты, звуковые комплексы, фонетическая структура которых неодинакова, напр., дъщанъ — чан, политавры — литавры, пьпьрьць — перец и т. д.
При фонетической трансформации слова стержнем его целостности становится его смысловая структура. Самой крепкой и осязательной опорой единства слова в этом случае является сохранность, неизменность его номинативного применения. Тот предмет, на который указывало слово чьбан, не изменился оттого, что вместо чьбанъ он стал через столетие называться жбан (ср. бъчела — пчела, диалект. мчела при украинском бджола; пряник из пьпьряникъ; гончар из гърньчарь и т. п.). Таким образом, тожество слова не разрушается его фонетической деформацией: с исторической точки зрения очюньно и очень — одно и то же слово. Кроме того, фонетические изменения, происшедшие со словом, могут не затронуть его фонологической структуры (если эти звуковые изменения не коснулись значимых элементов фонем, не нарушили общей фонетической модели и не передвинули морфологических рядов). С фонологической точки зрения звуковая форма слова может оставаться тожественной при резких фонетических изменениях в ее внешности, воспринимаемой слухом человека, чуждого данному языковому коллективу (напр., перчатка из перщатка — пьрст-jатъ-ка). Ведь большая разница между тем, «каким чувствуется говорящим произносимый звук как знаменательная единица и каким выходит в исполнении и произнесении, благодаря комбинаторным внешним обстоятельствам»20.
В связи с этим необходимо напомнить учение проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ о факультативных фонемах (т. е. о переходных исторических стадиях от полного существования к исчезновению звука). На этих стадиях «имеется еще в душах говорящих воспоминание и представление изустного звука, но без необходимости исполнения, которое, таким образом, является факультативным»21. Казалось бы, знание закономерностей фонетического развития языка обеспечивает сознание тожества слова — несмотря на многообразие его звуковых изменений. Однако резкие фонетические превращения слова могут оторвать его от родственного морфологического ряда (напр., очнуться от очутиться; кануть от капать; ср. капнуть и т. п.), или же вызвать раздвоение слова, его расщепление на две единицы (напр., ружье и оружие). Фонетические изменения нередко ведут к резким семантическим сдвигам в смысловой структуре слова и разрывают его связи с другими словами, преобразуя весь его морфологический облик. Так, изменение дъщанъ в чан было связано с отрывом слова чан от лексического гнезда доска, дощаный, дощаник и т. п., с морфологическим опрощением структуры этого слова, с превращением его в непроизводное и с соответствующим его семантическим преобразованием. Границы тожества слова окажутся еще более широкими, если подойти к структуре слова с семантико-морфологической точки зрения. В этом аспекте слово, принадлежащее к категориям знаменательных частей речи, представляется системой соотносительных и взаимообусловленных форм, выражающих или разные синтаксические функции этого слова или оттенки — интеллектуальные и экспрессивные — его значений. Например, в древнерусском книжном языке — быти, есмь, еси, суть, бы, буду, сущий, будучи и другие беспредложные глагольные образования тех же корней были формами одного и того же слова. Система форм одного слова в пределах категории глагола и в сфере именных категорий — величина исторически изменчивая. Так, в современном русском языке есть, суть, сущий, быть (с формами будущего и прошедшего времени), архаический канцелярский союз буде и частица бы являются разными словами. Единство смысловой структуры спрягаемого или склоняемого слова определяется всем строем языка на той или иной ступени его развития.
Смещения и изменения в системах форм разных слов непрестанно колеблют устойчивость его семантических границ и ведут к раздвоению или даже распаду тожества слова. Понятно, что распад слова на две самостоятельные лексические единицы так же обнаруживается лишь на фоне всей семантической системы языка, рассматриваемой в ее движении и в ее отношении к другим языковым системам.
Вот пример из истории русского профессионально-военного диалекта. В строевом учении начала XIX в. существовала команда весь-кругом, и это движение батальона, фронтом назад, делалось медленно, в три приема с командою: «раз, два, три». Но потом — по прусскому образцу — стали выполнять это движение в два приема и самая команда была сокращена и произносилась весь-гом. Понятно, что выражения весь-кругом и весь-гом сначала воспринимались как варианты одного и того же словосочетания. Но употребление выражения весь-гом вышло далеко за пределы применения старой команды весь-кругом. Оно подверглось субстантивации и стало широким символом фрунтового формализма и произвола. Таким образом, весь-гом стало новым словом, проникшим на некоторое время в стили общелитературного языка. Например, в «Записках о моей жизни» Н. И. Греча: «Общее мнение — не батальон: ему не скажешь весь-гом. Не только офицеры, но и нижние чины гвардии набрались заморского духа» (1930, с. 387). О команде весь-гом, как о популярном военном термине рассказывает и Ф. Булгарин в своих «Воспоминаниях» (СПб., 1848, ч. 5, с. 185—186).
Выражение весь-гом приобрело резкий экспрессивно-иронический характер. Например, им воспользовались поручики Белавин и Брозе в стихотворной сатире на кампанию 1807 г. Здесь команда весь-гом была применена к оценке действий русской армии в борьбе 1807 г. с Наполеоном.
Где ты девалась, русская слава,
Гремевшая столь много лет?
Где блеск твой, сильная держава,
Которому дивился свет?
Померкло все! весь-гом проклятый,
Лишь выдуманный нам на месть,
Весь-гом, у пруссаков занятый,
Отнял у нас всю славу, честь.
Когда весь-гома мы не знали,
А знали только что вперед,
Тогда мы храбро воевали,
Страшился нас галл, турок, швед.
И далее, изображая действия русских, авторы каждую строфу заключают ироническим рефреном.
И сами сделали весь-гом:
Мы отдали врагам Варшаву,
И сами сделали весь-гом
Французов в прах было разбили,
А сами сделали весь-гом.
На месте тысячи поклали
И сами сделали весь-гом.
Аракчеев, бывший военный министр, отправил авторов этого стихотворения без шпаг, т. е. под арестом, в Финляндскую армию и предписал в войне со шведами посылать их «в те места, где нельзя сделать весь-гом» (Заметки «Весь-гом» (Сатира на кампанию 1807 г.) // Русск. старина, 1897, декабрь, с. 569—570).
Для лингвиста, склонного рассматривать язык как непрерывный поток творческой деятельности и видеть в слове неповторимую, индивидуальную единицу речи, слово однозначно: «новый смысл слова есть новое слово» (Потебня, Из зап. по русск. грамматике, 4, с. 198). «В словарях принято, для сбережения времени и места, под одним звуковым комплексом перечислять все его значения. Обычай такой необходим, но он не должен порождать мнения, что слово может иметь несколько значений. Омоним есть фикция, основанная на том, что за имя (в смысле слова) принято не действительное слово, а только звук. Действительное слово живет не в словаре или грамматике, где оно хранится только в виде препарата, а в речи, как оно каждый раз произносится, причем оно каждый раз состоит из звуков единственного и одного значения (Steinthal Über den Wandel der Laute und des Begriffs // Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, l, с. 425—428). Связью между звуком и значением служит первоначально представление; но с течением времени оно может забыться. Отношение между словами однозвучными, если однозвучность их не есть только случайная или мнимая, всегда бывает таково: а) представление, первоначально связанное со звуком, может в разное время стать средством сознания различных значений; б) каждое из этих значений может, в свою очередь, стать представлением других значений. Положим, в слове зелье представляется растение чем-то зеленым; значит, растение служит затем представлением лекарства, лекарством представляется снадобье вообще, снадобьем представляется порох. Все эти значения — растение, лекарство, снадобье, порох — составляют не одно слово, а четыре. При появлении каждого из этих значений создается новое слово, хотя звук первого слова может и при всех последующих оставаться неизменным. Нелепо думать, что люди, называющие порох зельем, представляют его себе зеленым или не сознают различия между растением и порохом» (Потебня. Назв. соч., с. 96). Однако сам А. А. Потебня в своих разнообразных историко-этимологических разысканиях считал возможным связывать с смысловой структурой одного слова целую серию значений, внутренне связанных и развившихся друг из друга.
Строго различаются две формы генетической связи между явлениями — причинная, где налицо отношения причины и следствия, и эволюционная. Причинная форма связи не предполагает однородности явлений. Причина и следствие могут не иметь между собою абсолютно ничего общего. Причинный ряд характеризуется качественной прерывностью. Установление причинной связи в изменениях значений слова — задача чрезвычайно трудная и пока еще неразрешенная. Кроме того, поиски причин изменения значения отдельного слова лишь отвлекли бы исследователей от наблюдений за постепенным ходом семантических модификаций слова. Ведь причины этих изменений могут быть очень различны. Между однородными явлениями устанавливается эволюционная связь. Для выяснения наличия эволюционной связи требуется, прежде всего, сравнительный метод, исходной предпосылкой которого является тезис: известная, поддающаяся математическому исчислению степень сходства между двумя явлениями служит доказательством их генетической связи друг с другом. Но при установлении генетической схемы неизбежен отрыв от конкретной полноты действительных процессов. Ведь уже само рассмотрение факта лишь как отдельного звена эволюционного ряда связано с сужением конкретного содержания исторического процесса. С исторической точки зрения к одному и тому же слову относятся все разновидности его, между которыми удается установить генетическую связь значений. Между тем, в конкретных, исторически замкнутых системах языка многие из этих разновидностей уже перестают сближаться и расцениваются как разные слова, как омонимы. Таким образом, семантические границы слова, рассматриваемого в историческом разрезе, оказываются чрезвычайно широкими. Они не совпадают с конкретным смысловым объемом соответствующих словесных единиц в рамках той или иной языковой системы. Слово как объект исторического исследования, не соответствует ни одному из тех реальных единиц языка, которые под это историческое слово подводятся. Внутреннее смысловое единство такого исторического слова оказывается «идеальным». Оно не воспроизводит реальной сложности и раздробленности явлений, а лишь концентрирует их в один абстрагируемый образ. Поэтому надо быть всегда настороже против этой иллюзии тожества. В ней источник многих ложных заключений. Мнимое тожество имени и его фонетическая эквивалентность может показывать глубокие семантические и структурные различия. Даже общность этимологических элементов в составе слов вовсе не является признаком их тожества. Например, сыскать и снискать в русском литературном языке XVIII — XIX в. были разными словами. То же следует сказать о таких парах, как кануть и капнуть, обязать и обвязать и т. п. Однако в ином свете представляются соотношения слов и форм поднимать — подымать, поднять — подъять; обнять и объять (ср. объятия). Методика исследования тожеств еще заключает в себе много спорного и неясного. Например, можно ли считать тожественными однозвучные слова, составленные из одних и тех же морфем, но самостоятельно зародившиеся на разной социальной почве. Самозарождение однотипных и омонимных слов — такой же реальный факт, как и самозарождение мотивов, сюжетов и обычаев. При этом такие близкие по значению омонимы могут возникать не только одновременно — в разных диалектах и наречиях русского языка, но и в разные периоды развития одного и того же языка.
Морфологические элементы, очень живучие, играющие активную роль на протяжении многих периодов исторического развития языка легко могут вступать в однородные сочетания в разное время, в разных системах языка. Ведь многие модели слов бывают продуктивны в течение нескольких столетий. В таком случае складываются одинаковые или однородные слова, графические или даже фонетические омонимы, между которыми нет ни семантической связи, ни культурно-исторической преемственности. Это вполне разные слова. Например, в древнерусском языке слово народьник(ъ) служило для передачи греч. δημóτης. Например, в Изборнике 1073 г.: «паче же димоти, рекъше народьникъ, нача с# въ (о)сумh кычитi и величати» в Панд. Никона (сл. 41): «Поставленъ епископомь народьникъ (димоть)» (Срезневский, 2, с. 321). Это слово в значении `высший чиновник, сборщик народных податей' употреблялось в высоком славянском слоге вплоть до XVII в. Так, в рукописном Житии Иоанна Предтечи (по рукописи Архива святейшего правительствующего Синода, XVII в.) в изложении чуда Крестителя господня Иоанна в Новгородцком Посаднике (л. 120—128 об.) несколько раз встречается слово народник в таком контексте: «Иностранцы латинския вhры... моляху архиепископа великого нова града, посадников же и тысещников и всех града того народников». «Помощь же подаяше многу мздоимныи народник Добрыня...»; «от суе умне народниче, како оболстися злата дhля мhсто поборателя, противник зол явися христове церкви»22. В русском литературном языке XVIII в. слово народник уже не употребляется. Но в 60—70-ые годы XIX в. образуется новое слово народник для обозначения представителей общественно-политического течения среди радикальной интеллигенции, считавшего крестьянство единственной базой идеально-государственного устройства. Ср. народничество, народнический. Эти слова не указаны ни в одном словаре русского литературного языка до словаря Даля включительно. Необходимо еще вспомнить, что с именем народник связывали понятие славянофильства. И. С. Аксаков писал проф. П. А. Висковатову: «Как вы могли нас народников называть славянофилами?» (Письмо от 29 февр. 1884 г.). О Лермонтове он же заметил: «По всей вероятности, Лермонтов кончил бы народником, как стал им и Пушкин. Сознательным или несознательным — все равно»23.
Слово общественник не вошло ни в один словарь русского языка до 40-х годов. Впервые оно отмечено словарем 1847 г. Здесь общественник определяется так: «Принадлежащий к какому-либо обществу». Словарь Даля развивает то же определение: «Общественник, общественница к обществу, общине принадлежащий, общник, член, собрат по сословию» (2, с. 634). Таким образом, слово общественник первоначально обозначало члена какого-нибудь сословного объединения. Позднее слово общественник сузило свое значение и стало применяться к крестьянину, члену сельского общества. В этом значении слово общественник употреблялось и В. И. Лениным (1903 г., в суждении о положении деревни в царской России): «В каждой деревне, в каждом обществе есть много батраков, много обнищавших крестьян и есть богатеи, которые сами держат батраков и покупают себе землю ”навечно“. Эти богатей тоже общественники, и они верховодят в обществе, потому что они — сила». Современное слово общественник в значении `человек, активно участвующий в общественной работе' возникло независимо от прежнего старого омонима. Это — два разных слова. (Но см. в словаре Ушакова). Ср. ранее в письме Е. Я. Колбасина к И. С. Тургеневу (от 29 сентября 1856 г.): «Да и что вы, в самом деле, за общественник такой, обреченный судьбой на расхищение каждого литературного подлипалы» (Тургенев и «Современник»).
К числу слов-омонимов, возникших в русском языке в XIX в., как и в других языках, относится серия слов, связанных с одним и тем же звуковым и морфологическим комплексом — нигилизм, нигилист. В русском языке лишь И. С. Тургенев, применив имя нигилиста к типической психологии шестидесятника, придал ему историческую устойчивость и могучую силу крылатого термина. Тургенев с полным правом мог считать себя создателем нового слова («Литературные и житейские воспоминания», гл. 5 «По поводу отцов и детей»), хотя омонимы этого слова существовали и раньше — не только во французском и немецком, но и в русском языке. Недаром современный критик (Н. Н. Страхов) заявил, что из всего, что есть в «Отцах и детях», слово нигилизм имело самый громадный успех. «Оно было принято беспрекословно и противниками и приверженцами того, что им обозначается»24. Прав был по-своему и П. В. Анненков, который говорил, что вместе с Базаровым найдено было и меткое слово, хотя вовсе и не новое, но отлично определяющее как героя и его единомышленников, так и самое время, в которое они жили, — нигилизм (Вестник Европы, 1885, 4, с. 505). Как показал М. П. Алексеев25, появление слова nihiliste во французском языке относится к самому началу XIX в. Оно впервые отмечено у Мерсье, автора сочинения «Картины Парижа», в его словаре неологизмов 1801 г. Здесь под словом nihiliste (или rienniste) разумеется крайний скептик, человек с опустошенной душой `который ничему не верит, ничем внутренне не интересуется'. В немецком философско-публицистическом языке слово Nihilismus известно также с конца XVIII — начала XIX в. Здесь Nihilismus обозначает крайнее проявление идеализма, считающего идею первым абсолютным началом бытия и из нее выводящего весь мир действительности. В русском языке слово нигилист едва ли не первый употребил Н. И. Надеждин в своей нашумевшей статье 1829 г.: «Сонмище нигилистов» (опубликовано в «Вестнике Европы» под псевдонимом Никодим Надоумко). По словам Ап. Григорьева: «Слово ”нигилист“ не имело у него того значения, какое в наши дни придал ему Тургенев. ”Нигилистами“ он звал просто людей, которые ничего не знают, ни на чем не основываются в искусстве и жизни, ну, а ведь наши нигилисты знают пять книжек и на них основываются...» («Мои литературные и нравственные скитальчества»). После Надеждина тем же образованием — нигилизм — пользовались и Н. Полевой для шутливо-иронической характеристики материализма, и В. Г. Белинский — для сатирической квалификации пустоты, отсутствия всякого содержания. В рецензии на «Провинциальные бредни» Дормедона Васильевича Прутикова (Молва, 1836, № 4) сказано, что в этом произведении «нет ни идеализма, ни трансцендентализма: в них, напротив, абсолютный нигилизм, с достаточной примесью безвкусия, тривиальности и безграмотности». Любопытно, что в несколько сходном смысле употребил слово нигилизм и акад. П. С. Билярский в своем исследовании «Судьбы церковного языка» (1849, СПб., ч. 2, с. 107—108), заметивший по поводу выступления И. И. Срезневского: «Это было ... только призрак утверждения и отрицания, под которым открывалось отсутствие определенного взгляда, полный, абсолютный нигилизм». Кроме того, С. П. Шевырев в «Теории поэзии» (1835) пользуется словом нигилист вслед за Жан-Полем — для обозначения крайних идеалистов, а М. Н. Катков в 1840 г. называет нигилистом — материалиста: «Глядя на мир как он есть, скорее станешь из двух крайностей мистиком, чем нигилистом: мы окружены отовсюду чудесами» (Отеч. зап., 1840, 12, октябрь, отд. 2, с. 17). Таким образом, одно и то же образование возникает в разное время и в разных местах, так как его компоненты были интернациональны, и наполняется разнообразным содержанием. Непрерывность историко-семантического развития этим омонимическим обозначениям была чужда. Лишь Тургеневу удалось вдохнуть в то же образование новую душу, новый исторический смысл, который оказался очень активным и живучим.
III
Симптомом тожества слова в разных системах языка является непрерывность его историко-семантического развития. Если слово как устойчивый реальный факт, как культурно-историческая вещь, непрерывно продолжает выполнять свои функции, хотя и очень разнообразя их, на протяжении нескольких веков нескольких периодов развития языка, то историческая преемственность его значений, их внутренняя связь остается непоколебимой. Единство «еще» сохраняется, несмотря на различие ее функций в разных исторических контекстах. Конечно, в этом случае может играть большую роль сознание тожества матерьяльного субстрата слова, его фономорфологического состава. Но понятие непрерывности семантического развития слова очень условно. Ведь только в очень редких случаях историк языка может непосредственно наблюдать самый процесс становления и развития новых значений слова с момента его образования. По большей части он имеет дело лишь с разными состояниями или положениями слова в разных языковых системах. Ему дано лишь последовательное отношение предыдущих и последующих значений. Принципы и формы их генетической связи восстанавливаются и устанавливаются лишь интуитивно. Однако, вопреки учению Ф. де Соссюра, синхронический и диахронический аспекты изучения слова взаимообусловлены и тесно между собой связаны. Идея непрерывности развития слова соотносительна с идеей его изменяемости. Но сама непрерывность — только одна из бесчисленного множества модификаций прерывности. Непрерывность развития слова обычно лишь предполагается, постулируется. Доказательства этой идеи часто опираются на предположение непрерывного исторического движения единого коллективного сознания, т. е. на гипотезу однородности духовной структуры и духовной эволюции коллектива и личности. Но непрерывно ли коллективное движение мысли? При проекционном методе исторического исследования непрерывность развития слова вовсе не тожественна с активным его употреблением из поколения в поколение в рамках одного коллектива. В этом аспекте понятие непрерывности развития отнюдь не соотносительно с понятием единого — раскрывающегося коллективного сознания. Когда слово рассматривается как объективная вещь, как культурно-исторический факт, то учитываются не только странствования слова по диалектам, его перемещения из одного социального круга в другой, но и переходы слова от музейного бытия среди памятников письменности в живую жизнь. Все это вполне мирится с тем условным понятием культурно-исторической непрерывности, которое в данном случае восполняется представлением о длительном консервированном состоянии слова, закрепленного в письменных источниках, о его потенциальном существовании и о непрекращающейся живой возможности его бытового возрождения. Например, слово гостиница к XVIII веку выходит из живого бытового употребления. Оно сохраняется лишь в рамках церковно-книжного культового диалекта. С ним связывается представление о «постоялом дворе, о доме или пристанище для путешествующих» (Русск. старина, 1891, апрель, с. 2). Даже в словаре 1847 г. это слово еще рассматривается как неупотребительное «церковное». Ср. в воспоминаниях И. А. Второва «Москва и Казань в начале XIX в.» (1842): «Остановился на Тверской улице в Цареградском трактире (тогда еще не называли гостиницами)». Только с 30—40-х годов в связи с ростом славянофильских тенденций возвращается в живой бытовой язык древнерусское слово гостиница, ограничивая употребление слова hotel и видоизменив значение слова трактир.
Итак, понятие тожества слова в его развитии предполагает непрерывность его исторического существования. Но эта непрерывность на деле легко мирится с многовековыми перерывами в реальном применении слова. Далеко не всегда непрерывность истории слова состоит в последовательном переходе его от одного поколения к другому в границах того же общества. Слово может блуждать по разным диалектам. Оно может быть законсервировано в памятниках письменности и затем возобновиться в общественной практике, как бы возродиться к живому, активному употреблению. Противоречие между постулируемой исторической непрерывностью слова и между прерывностью его активного употребления — новая антиномия историко-семантического изучения лексики. Изучение непрерывности развития значений слова затруднено тем обстоятельством, что по отношению к далекому прошлому вопрос о составе активного словаря, об объеме и стилистических функциях пассивного словаря, о переходе тех или иных слов из подспудного существования или инертного состояния в живое общественное употребление почти неразрешимы. Между тем, все эти изменения в характере пользования словом, в способе его восприятия обычно сопровождаются экспрессивной переоценкой слова. Вот почему объем значений и оттенки многих слов кажутся нам неизменными, как бы окаменелыми на протяжении многих веков. Между тем, это — историческая иллюзия, обман зрения у историка слова: смысловая структура слова не оставалась неподвижной, законсервированной. Например, слово — тоземьць (в другой более поздней форме туземец) встречается в русских памятниках, начиная с XI в. (см. Срезневский, 3, с. 972—973 и 1035; ср. Истрин, Хроника Георгия Амарт., т. 1). Его значение ясно: `природный житель страны, местный житель'. В словаре 1847 г. значение этого слова определяется так же: `природный житель какой-либо земли или страны, тутошний уроженец'. Возникает иллюзия семантической неизменности или неизменяемости слова. Между тем, во второй половине XVIII и начале XIX в. слово туземец было настолько малоупотребительно, что оно не попало ни в словари Академии Российской, ни в словарь П. Соколова. Оно хранилось в архивном фонде языка. Г. И Добрынин в своих «Записках» (Истинное повествование или жизнь Гавриила Добрынина) под 1781 г. делает такое примечание к слову туземный: «Прошу не взыскивать за наше родное слово. Ежели мы знаем иностранец или пришлец, то должны знать и туземец. Так называли и писали наши праотцы славяне». При этом делается ссылка на «Российскую Вивлиофику» Новикова (Русск. старина, 1871, 4, с. 145).
Непрерывность исторического бытия слова во многих случаях трудно доказуема. Перерыв в употреблении слова еще не исключает его пассивного восприятия и понимания в памятниках письменности. Вместе с тем, выпадая из живого литературного лексикона, слово может сохранять свою активность в языке некоторых социальных групп, откуда снова проникает иногда в общелитературный словарь. Понятно, что при исследовании всех этих вопросов важное значение имеет морфологическая структура слова, жизненность и употребительность его модели. Например, едва ли можно сомневаться в том, что слова благодушие и благодушествовать, получившие особенное распространение в русском литературном языке со второй половины XIX века, все-таки восходят к соответствующим книжным славянизмам. Здесь трудно было бы допустить вторичное образование этого слова или его «воскрешение» под влиянием возродившегося интереса к древнерусской письменности. В самом деле, слова благодушие (ср. добродушие) и даже глагол благодушествовати отмечены в памятниках древнерусской письменности XII — XVI вв. Например, в Сборнике XVI в. «О летнем обхождении и воздушных переменах»: «длъжни есмы... благодушествовати и не гнhватися». Глагол благодушествовати, по-видимому, имел два оттенка: 1) быть бодрым; 2) находиться в радостном настроении (Срезневский, 3. Дополнения, с. 15). В церковно-славянском языке слова — благодушие и благодушествовать широко употреблялись и в XVII — XVIII в. (ср. в посланиях Апостола Павла к Филиппийцам, 2,19: «Да и азъ благодушствую, увhдhвъ, уже о васъ»). Они не чужды были высокому и среднему стилю русского литературного языка этого времени. Например, в «Капище моего сердца» И. М. Долгорукого об архимандрите Парфении: «Он отпевал и предал земле тело меньшей дочери моей Евгении, плакал вместе со мной, когда мне бывало грустно, и благодушествовал, когда небо посылало мне отраду» (изд. «Русск. архива», с. 257). Но уже в словаре 1847 г. слова благодушие и благодушествовать квалифицируются как церковные. Глагол благодушествовать был пропущен, по-видимому, в силу его малой употребительности, в 1-м изд. словаря Даля. П. Шейн в своих «Дополнениях» к словарю Даля обратил внимание на этот пропуск: «Благодушествовать. Пропущено. Это слово, как мне кажется, пущено в литературный оборот Островским» (с. 8). В связи с изменением стилистических функций слова и его экспрессии, в связи с распространением его в разговорно-шутливой речи происходит сдвиг в его значении. Благодушествовать означает: `проводить время без дела и забот, находясь в мирном, невозмутимо-покойном, добродушном расположении духа' (ср. те же экспрессивные изменения в словах: благодушие и благодушный).
Когда живое употребление слова прерывается, то утраченное слово, закрепленное в памятниках письменности, может дать жизнь как бы новому слову с той же внешней формой, но наполненному новым содержанием. Например, слово тризна в древнерусском языке означало погребальные игры, погребальное состязание. В этом значении оно употребляется в начальной летописи. Старославянские тексты через тризна, трызна передают греческие στάδιον, παλάíςτρα, ゅ〈λον и т. п. Следовательно, и тут тризна, трызна значило: `борьба, состязание'. «Состязания в память умершего, как часть погребального обряда, до сих пор известны у осетин. Это — скачки с призами из одежды покойного, его оружия, седла, иногда из лошади, быка, денег», — заметил в связи с этим акад. А. И. Соболевский (Мат-лы и исследования, с. 273—274)26. Слово тризна в этом употреблении постепенно отмирает вместе с самим обрядом погребальных игр, состязаний. Слово тризна в Новгородском глоссарии XV в. (по списку 1431 г.) объясняется так: `страдальчество, подвиг'. Таким образом, уже в XIV — XV вв. оно относилось к разряду «неудобь познаваемых речей». Во второй половине XVIII в. — под влиянием растущего интереса к древнерусской истории — распространяется знакомство со словом тризна. Постепенно входит в литературное употребление27 слово тризна в значении `погребальный пир, поминки'. Это осмысление было подсказано бытом той эпохи. Например, у И. А. Крылова в басне «Кот и повар»:
...он набожных был правил
И в этот день по куме тризну правил...
У Пушкина в «Песне о вещем Олеге» (1822)
На тризне, уже недалекой,
Не ты под секирой ковыль обагришь
И жаркою кровью мой прах напоишь!...
Ковши круговые, запенясь, шипят
На тризне плачевной Олега...
Ср. у Некрасова в «Размышлениях у парадного подъезда»:
Привезут к нам останки твои,
Чтоб почтить похоронною тризною,
И сойдешь ты в могилу... герой,
Втихомолку проклятый отчизною,
Возвеличенный громкой хвалой!...
На основе этого значения в поэтическом стиле первой половины XIX в. стало развиваться переносное употребление: тризна — в смысле: `скорбное воспоминание о ком-нибудь или о чем-нибудь утерянном, погибшем'.
У Баратынского в стихотворении «Осень»:
Садись один и тризну соверши
По радостям земным твоей души!
В диалектном употреблении слово тризна получило еще новый оттенок значения, связанный с поминальным угощением. По словам П. И. Мельникова: «На похоронных обедах сливают вместе виноградное вино, ром, пиво, мед, и пьют в конце стола. Это называется тризной». Ср. в рассказе П. И. Мельникова «Старые годы»: «”... — За невестами у меня дело не станет: каждая барышня пойдет с удовольствием. Не пойдет, чорт с ней, — на скотнице Машке женюсь“. Под эти слова стали тризну пить». (Мельников-Печерский, 1, с. 144). Если считать основным признаком тожества для слов, не имевших непрерывного употребления, непосредственную генетическую связь их реставрированного облика с их древним употреблением, то круг тожеств очень расширится. (Например, в 40—50-х годах XIX в. восстанавливается широкое литературное употребление слова рознь в значении `раздор, несогласие'28. Таким образом, в историко-лексикологическом аспекте под непрерывностью исторического существования слова понимается как активное употребление соответствующего слова в разных исторически сменявшихся системах языка, так и пребывание его, иногда на протяжении целых столетий, в архивном фонде данного языка. Понятно, что в этом архивном фонде, в этой своеобразной сокровищнице исторических богатств и потенциальных ресурсов языка хранятся не все слова, когда-либо бывшие в живом употреблении, а лишь те, которыми обозначаются существенные или характерные явления и представления национального прошлого, с которыми связаны типичные черты стиля и мировоззрения известной эпохи и которые признаются в том или ином отношении ценными для выражения коренных начал народного духа.
Несомненно, что даже в этом расширенном смысле понятие непрерывности бытия в истории данного языка неприменимо к таким словам, в разновременном употреблении которых отражаются лексико-семантические процессы чужих языков. Например, слово прогресс появилось в русском литературном языке в начале XVIII в. (ср. латинск. progressus, немецк. Progress). Оно обозначало: `успех' или по определению рукописного лексикона нач. XVIII в.: `прибыль, прибыток, преуспеяние' (Смирнов, Зап. влияние, с. 244). Ср. у Шафирова в «Рассуждении» (1717): «Войско ... многия прогрессы (выигрыши) чинило» (с. 43). Совершенно иным содержанием наполнилось слово прогресс в интернациональной общеевропейской социально-политической терминологии (ср. франц. progresse, англ. progress), откуда это слово вновь проникает в русский литературный язык 30—40-х годов XIX столетия (см. Виноградов. Очерки, с. 389).
Точно так же не может быть признано непрерывным существованием многократно возобновляющееся образование таких производных слов, которые в индивидуальной и даже в широкой коллективной речевой деятельности самостоятельно возникают как новые слова. В советском языке на время явилась целая серия слов, произведенных от церковного славянского аллилуя (евр. halleluja — `хвалите бога'): аллилуйщик, аллилуйщина, аллилуйный, аллилуйский. «Аллилуйщик — это человек, неумеренным восхвалением существующего положения вещей прикрывающий отрицательные явления и тем мешающий борьбе с ними» (Ушаков, 1935). Имя прилагательное к этому слову может быть образовано так: аллилуйщицкий или более книжно аллилуйский. Любопытно, что слово аллилуйский в индивидуальной речи употреблялось раньше, но непрерывной традиции в этом употреблении установить невозможно. В письме Тургенева к Фету от 8 октября/26 сентября 1871 г.: «Друг мой, обожание ”Московских Ведомостей“ должно быть однако соединено с некоторой долей самостоятельности — а то ведь как раз можно заговорить ”аллилуйским“ языком» (Тургенев, Письма, с. 129).
IV
Отправным пунктом исторического исследования слова является современная система его употреблений и значений. Но семантический объем живого слова на современной стадии развития языка бывает ограниченнее, уже, хотя и отвлеченнее и логически расчлененнее, чем структура слова на иных далеких от нас стадиях истории языка. То, что в современном языке стало разными словами — омонимами, генетически может восходить к одному лексическому зерну. Смысловой объем слова исторически меняется, внутренняя сущность слова также исторически изменяется. Таким образом, диспропорция между современным понятием о слове и восприятием слова на других стадиях развития создает противоречия в понимании самой лексической единицы, как объекта исторического исследования. Вопрос о единстве смысловой структуры слова в его историческом развитии упирается в вопрос о происхождении, генетической связи и эволюции значений этого слова. Анализ современной системы значений может быть лишь началом такого исследования. Например, в современном русском языке непосредственным сознанием различаются два глагола-омонима приписать:
I. Приписать — приписывать — 1) что. Написать в дополнение к чему-нибудь, прибавить к написанному прежде. Приписать несколько слов в письме. Приписать заключение к последней главе повести. 2) кого-что. Записав, причислить куда-нибудь, внести в списки (канц. офиц.). Приписать к призывному участку.
II. Приписать — приписывать кого-что кому-чему. Счесть причиной чего-нибудь, отнести за счет кого, чего-нибудь. Долгое отсутствие письма приписывал неисправности почты. У Пушкина в «Капитанской дочке»: «Анна Власьевна, хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала его провинциальной застенчивости». // Счесть принадлежностью кого-нибудь или счесть принадлежащим кому-нибудь. Приписывал ей всяческие добродетели. Ср. у Пушкина: «”Вампир“, повесть, неправильно приписанная лорду Байрону» (в сл. Ушакова оба омонима слиты в одно слово).
Можно ли оба эти омонима возводить к одному слову, видеть в них продукт семантического распада единой смысловой структуры? Без историко-семантического исследования сразу ответить на этот вопрос невозможно. Легко заметить, что второй омоним соответствует по своему морфологическому строю и по смыслу немецкому: `jeemandem etwas zuschreiben'. Ср. в письме знаменитого фельдмаршала Барклая де Толля (от 15-го января 1813 г.): «Wenn ich Ihnen nicht früher geantwortet habe, so schreiben sie es dem Meere von Geschäften die mich belagern zu» (Если я вам не отвечал ранее, то припишите это морю дел, осаждавших меня) (Русск. старина, 1888, октябрь, с. 265). Эта калькированная передача немецкого zuschreiben возникла в русском деловом языке XVIII в. Во всяком случае, в словарях Академии Российской все современные значения обоих омонимов уже зарегистрированы и объединены в одном слове: Приписывать, приписать — 1) Прибавлять что к написанному. Приписать к чему статью, строку... 2) Письменно утверждать что за кем во владение или в ведомство. Приписать крестьян к какому уезду, к заводу. 3) Придавать кому по свойству, качеству наименование. Приписывать кому добродетели. 4) Относить что к кому или почитать кого или что причиною, главным орудием чего. Победу сию приписывают храбрости, искусству и прозорливости полководца. 5) Относительно к сочинениям: посвящать кому какую книгу. Иногда обе конструкции, связанные с глаголом приписать, в русском языке смешиваются. Например, у И. А. Второва в воспоминаниях «Москва и Казань в начале XX в.»: «Добродетели твои приписывали к корыстным видам, а слабости, свойственные всем людям, низким порокам» (Русск. старина, 1891, апрель, с. 22). Таким образом, есть основания утверждать, что в русском литературном языке XVIII в. и первой половины XIX в. внутренняя объединенность разных значений, связанных с одним и тем же звуковым комплексом — приписать, — считалась непосредственно очевидной и что тенденции к распаду их на две омонимных лексических единицы еще не было. Естественно, что процесс расхождения двух рядов значений: приписать — `написать дополнительно к чему-н.' или `записать к какому-нибудь разряду' и приписать — `счесть что-н. причиной чего-н. или счесть принадлежностью чего-н.' был связан с дифференциацией их морфологической структуры: в одном глаголе сохранялись отчетливые семантические признаки префиксального словопроизводства (приписать — `написать при' — т. е. `дополнительно к', ср. приписка, в другом приставка при — все больше теряла значение особой морфемы, и крепло ощущение непроизводности основы (приписать — `признать причиной').
Идеологические противоречия между современным мировоззрением и семантическими системами далекого прошлого часто приводят к искажению смысловой перспективы в истории слова. Истории слова грозит опасность превратиться в легенду о слове, подсказываемую господствующей теорией современности. Истории материальной культуры и общественных мировоззрений не всегда устраняют этот элемент легендарности, так как сами несвободны от влияния «злобы дня». Прожектор современного освещения далеко не всегда разгоняет туман или мрак прошлого. Очень часто он вызывает лишь иллюзию ясновидения. Итак, противоречия между реально-историческими основами прошлых идеологий и между односторонностью современных теорий исторического познания могут стать препятствием к адекватному постижению действительности. Интерпретация старинного употребления слова обычно опирается или на архаические пережитки его применения в современных областных народных говорах, или на подстановку современных понятий под свидетельства древних текстов. В обоих случаях происходит исторически неправомерный перевод на современный язык, приноровление к современной системе понятий. Еще Лейбниц заметил: «Если трудно понять значение слов у наших современников, то тем более трудно это в отношении авторов древних книг»29. История чаще всего осмысливает действительность прошлого под влиянием господствующих идей современности. Придавая образ, значение и внутреннее единство давно минувшим явлениям, история в той или иной мере творит из них легенду. Каждая эпоха имеет свой образ прошлого, свою легенду о нем. Не подлежит сомнению, что идеологическая модернизация прошлого, его тенденциозное освещение в духе той или иной теории искажает историческую перспективу развития значений слова. Примером одностороннего освещения семантических процессов могут служить такие историко-лексикологические рассуждения И. Прыжова: «Древнеславянский муж получает в Москве бранное имя мужика, которое переходит в это время и в Малороссию, и брань: подлинный ты мужик, повторяясь чаще и чаще, превращается в новое модное в XVIII в. слово — подлый, прилагаемое ко всему народному... Имя человек, высокое по понятию народа (малор. чоловiк — домохозяин), спускается до названия холопа, лакея; общественное название лакеев: человек, люди. Вообще слово: люди, служившее некогда названием всего народа, получило с этого времени какое-то злое значение: ”люд, экой люд!“ (Маркович, 1912, с. 245). Тут звучит голос негодующего на социальное неравенство народника — революционера 60-х годов, в угоду агитационным задачам сильно изменяющего историю значения слов — человек (первоначально `самец, мужчина, муж'), люд, подлый, мужик.
Наш современник А. А. Дементьев в таком виде представляет семантическую историю слова мужик: «Можно предполагать, что слово мужик когда-то имело умалительно-пренебрежительный оттенок в значении и противопоставлялось слову муж. Другими словами, с одной стороны, были мужи — представители правящих верхов общества, с другой — мужики — представители низших сословий». Такая догадка находит себе некоторое подтверждение и в том, что в древних памятниках письменности, большею частью судебно-юридического содержания, жена боярина и вообще знатного человека того времени и жена человека из низших сословий называются по-разному. В первом случае жена, во втором, наряду с жена, — часто жёнка». Далее отмечается употребление слова мужик со значением `крестьянин' в Летописи по Никонову списку под 7064 (1556 г.): «И мужики многими иски отыскивались»30. И эти семантические догадки в гораздо большей степени опираются на общие историко-социологические соображения, чем на конкретные лингвистические факты. Не исследуется ни акцентологический тип слова, ни его древнерусское употребление хотя бы на протяжении XVI и XVII веков, ни его отношение к слову крестьянин, возникшему, по мнению П. Б. Струве, в связи с древнерусским церковным землевладением в XIV — XV вв.31.
В конце 80-х годов XIX в. на страницах Русского Архива происходила оживленная полемика по вопросу об историческом значении слова кормление. Первым выступил Д. Д. Голохвастов со статьей «Историческое значение слова кормление». Он доказывал, что кормление в старинном языке означало не `питание', а `правление'. «Слова корма, кормило, кормчий, кормчая книга, — писал Д. Голохвастов, — несомненно одного корня со словом кормление; но в них, очевидно, нет ничего общего с понятием о питании; об эксплуатации в свою личную, частную пользу, и все они прямо указывают на понятие об управлении» (Русск. архив, 1889, № 4, с. 650). «Дать кому-либо город или область в кормление — значит поручить ему управление этой местностью или, как сказали бы теперь, сделать его губернатором» (там же). Известно, что еще К. С. Аксаков выражал сомнение, правильно ли поступал С. М. Соловьев, понимая слово кормиться «в современном разговорном значении без исследования исторического». «Знакомство с памятниками показывает нам совсем другое»32. Несомненно, что истолкование слова — кормление (применительно к боярской деятельности) зависело от общей концепции древнерусского социально-исторического процесса. Классовые основы понимания термина кормление в значении `управление' раскрываются в таких заявлениях П. Д. Голохвастова, выступившего со статьей «Боярское кормление» в защиту мнения Д. Д. Голохвастова: «Назывались ли бояре кормленщиками от прирожденного права как можно сытнее кормиться народонаселением, т. е. буквально мироедствовать или же от прирожденной обязанности, с дворцом во главе, кормильствовать землю [т. е. управлять землей. — В. В.], вот ведь в чем вопрос» (Русск. архив, 1890, № 6, с. 242). «Как же историки-то, Иловайские, Ключевские... как же могут они, изучившие книгу бытия Руси изначала даже и доднесь, не спохватиться, в чем вся raison d'etre, вся причинная суть этой, будто бы ”достаточно выясненной“, так называемой системы кормления? Ведь очевидно же, вся она единственно в модности, еще Пушкину столь претившей, но тогда еще только буржуазной, теперь уже уличной, бесстыже-оголтелой модности ляганья
...Геральдического льва
Демократическим копытом»
(там же, с. 218).
В сущности, другими словами, но ту же мысль выражал и Д. Д. Голохвастов в указанной выше статье: «Если бы неверно истолковывалось другое слово, это могло бы не иметь значения, но тут искажается весь смысл нашей истории. Если бы лучшие слуги действительно заботились прежде всего о своих личных выгодах, а государственные дела откладывали; если бы наши московские великие князья и цари, после стольких усилий и таких жертв народной кровью, не умели сделать ничего лучшего из вновь завоеванного царства, как отдать его на растерзание этим алчным боярам, то не доросло бы Московское княжество до размеров России» (Русск. архив, 1889, № 4, с. 655). Ключевский иронизировал по этому поводу: «Как! Толкованием одного слова можно исказить весь смысл нашей истории?... замечательно лаконичен смысл нашей истории: он весь в одном слове — кормление» (Русск. архив, 1889, № 5, с. 145).
П. Голохвастов свое понимание слова кормление в значении `управление' обосновывает ссылкой на выражение держать кормление, на глаголы кормильствовать `управлять', на фразеологические контексты употребления слова кормление в древнерусских грамотах XIV — XVI вв. (кормление с правдою, т. е. с правом на суд и пошлину; кормление по исправе и т. п.), на общую этимологическую судьбу лексического гнезда, связанного с глаголом кормити. П. Голохвастов готов допустить, что кормить — nutrire `питать' и кормить — gubernare `управлять' — две ветви одного корня и что «живы еще отпрыски дичка, в которых кормилец — `питатель' и кормилец — `властитель' почти неразличимы». Но «обе [эти] корневые ветви разрослись... далеко врозь». Поэтому толковать боярское кормление как `питание' невозможно вопреки таким историкам, как С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин, Д. Иловайский, В. Ключевский и др. «И никому им в голову не приходит, что ведь этою этимологией кормления... они eo ipso отрицают у себя правление, как факт и как понятие, у них не существующие, им чуждые, им — т. е. всей России времен кормления, с Рюрика до Михаила Федоровича, по г. Чичерину, до Петра, по г. Иловайскому. Признавая себя (страну — живым кормом, бояр — потребителями, а государя — распорядителем кормежки), они отрицают себя как государство, признают себя за стадо, которое жалует волкам пастырь-наемник, пастырь-волк в овечьей шкуре» (Русск. архив, 1890, № 6, с. 238—239). По мнению П. Голохвастова, только с половины XVI и особенно в XVII в. начинает забываться древнерусский смысл термина кормление и глагола кормити. Кормить — `кормление' начинают смешиваться с кормить — `питать' и производными. «Разумеется, такова судьба не одного кормления: забывались или обессмысливались и многие другие слова» (там же, с. 247—248).
Между тем, еще Б. Н. Чичерин так характеризовал систему кормления, органически связанную с характером управления князя-вотчинника: «...доходы жаловались в кормление княжеским слугам. ...Суд отдавался в кормление наместникам и волостелям. ...Душегубство вместе с остальным судом бывало в кормлении за волостелями. Все это определялось не правительственными соображениями, а... расположением князя к тому или другому кормленщику». «Штрафование было произвольное; судья извлекал из преступника все, что мог. ...Имелось в виду не столько преступление, сколько доходное действие. ...Преступление составляло как бы собственность судьи»33. Этот взгляд на кормление как на способ вознаграждения наместников и волостелей за государственную службу был принят затем и С. М. Соловьевым. В «Истории России» он писал: «За свою службу князю, придворную, думную и ратную, бояре в этот период стали получать вознаграждение в трех видах: кормления, вотчины и поместья. Первый вид был связан с должностями наместников и волостелей. Назначая наместников в свои города, князь давал областям правителей и судей; в то же время он давал своим боярам возможность кормиться на счет жителей, т. е. пользоваться как судебными пошлинами, так и разными поборами натурою» (т. 11, с. 363).
По вопросу о значении слова кормление в связи с заметкой Д. Голохвастова выступили со статьями Д. И. Иловайский и В. О. Ключевский. Д. И. Иловайский как в своей статье о казанских делах при Грозном (Русск. архив, 1889, кн. 1), так и в ответе «Моим возражателям» (там же, 1889, кн. 5) считал смысл термина кормление вполне раскрытым в русской исторической литературе: «...вопрос о кормлениях достаточно выяснен в Русской истории, и никакие открытия... тут невозможны» (там же, с. 131). В обоих судебниках Ивана III и Ивана IV упоминаются «кормление с судом боярским» и «кормление без боярского суда». О кормлениях говорится и в связи не столько с управлением, сколько с судопроизводством, и преимущественно с пошлинами или с судебными доходами в пользу кормленщиков34. Иловайский рекомендовал Д. Голохвастову за более подробными справками о значении слова — кормление — обратиться к трудам по истории русского права, каковы напр., труды Неволина, Калачова, Чичерина, Дмитриева, Сергеевича, Градовского, Владимирского-Буданова и др.
Более филологический характер носила статья В. О. Ключевского «По поводу заметки Д. Голохвастова об историческом значении слова ”кормление“». Ключевский напоминает, что «кормлениями... назывались в древней Руси судебно-административные должности, соединенные с доходом в пользу должностных лиц, который получался ими прямо с управляемых... Этот доход носил общее название корма, соответствующее нынешнему канцелярскому термину содержание; отсюда и доходная должность получила название кормления. Так понимали это слово, если я не ошибаюсь, все ученые исследователи русской истории» («Письмо к издателю» // Русск. архив, 1889, № 5, с. 138). Ключевский считает, что глаголы кормить — `питать' и кормить — `управлять' — омонимы, хотя, быть может, и восходящие к одному корневому элементу. Но «ведь мы трактуем не об этимологическом происхождении, а об историческом значении слова кормление. Лингвисты вольны производить это слово от каких им угодно корней... Для объяснения исторического значения слова у нас есть под руками более надежное и привычное для нас орудие, чем мудреный корнесловный словарь: это орудие — исторический документ» (с. 139—140). «...нужны древние документальные тексты, которые достаточно явственно вскрывали бы древний смысл слова кормление» (с. 142). «Этот административный термин... является уже в памятниках XIV века, притом в таких контекстах, которые явственно изобличают значение, тогда ему принадлежавшее» [в договорной грамоте вел. кн. Дмитрия Ивановича 1362 г.]. «В конце XV в. боярам Судимонту и Якову Захарьину дана была в кормление Кострома с разделением города пополам между обоими: один из кормленщиков жаловался в Москве, что им обоим ”на Костроме сытым быть не с чего“. На языке XIV в. сидеть на кормлении значило `есть хлеб'» (с. 143). Ключевский заключает свое письмо такими словами: «Жутко работать русскому ученому, когда всякий почтенный согражданин может печатно обвинить его за всякое слово во всем, что ему вздумается, и только обвинить, а не опровергнуть» (с. 145).
Полемика о кормлении завершилась «Историко-критическими заметками» Д. И. Иловайского, помещенными в «Русской Старине» (1890, ноябрь). Здесь был приведен новый исторический материал, в пользу установившегося понимания термина кормление; было указано, что слово кормление для обозначения `пользования сборами, кормами' употреблялось не только в Московском княжестве, но и в Новгородском народоправстве с XIV в. «Новгородская летопись под 1383 г. говорит, что из Литвы приехал князь Патрикий Наримонтович, и новгородцы «даша ему кормление, пригороды Орехов и Корельский, и пол-Копорья городка, и Муское село» (с. 428—429). Иловайский, иронически называя теорию Голохвастова «губернаторской», замечает: «Ничего не может быть антиисторичнее, как древним бытовым формам навязывать понятия и отношения нам современные и давно прошедшие явления оценивать с точки зрения новейшей культуры» (с. 435). По мнению Иловайского, г. г. братья Голохвастовы в вопросе об историческом значении слова кормление «вооружились не изучением предмета и серьезным к нему отношением, а одним мнимо-патриотическим взглядом на наше прошедшее» (с. 435).
В заключение проф. Иловайский, допуская возможность происхождения разных омонимов: кормити, корм, корма, кормило и т. п. от одного корня, отказывается от всяких «этимологических упражнений» в этом направлении: «Объяснить, какими путями образовались в народном языке разнообразные выражения, пошедшие от одного известного корня, или разные оттенки одного и того же слова, — это такая задача, которая часто не под силу и записным филологам» (с. 436).
В самом деле, генетическая связь, устанавливаемая между разными значениями одного и того же слова в разные периоды его истории, — не дана в материале. Она открывается самим исследователем. Следовательно, в ее понимании всегда может быть та или иная степень индивидуального произвола. Легко найти генетическую связь значений одного слова там, где лишь простое сосуществование или самостоятельное зарождение двух одинаковых по внешности, но разных по существу слов. Опасность принять разные производные словообразования, самостоятельно вырастающие из одних и тех же морфем, за генетически связанные разновидности одного и того же слова — является тем подводным рифом, на который часто наскакивает ладья лингвиста, плавающего по безбрежному океану слов.
Ф. де Соссюр указывал, что при применении проекционного метода к изучению языковых фактов необходимо различать две перспективы: проспективную, следующую за течением времени, соответствующую действительному развитию событий, и другую, ретроспективную, направленную вспять. Но, вопреки Соссюру, линии их должны пересекаться и совпадать. Проспективное воспроизведение языкового процесса основывается на «множестве фотографий языка, снятых в каждый момент его существования», т. е. оно базируется на документах и на их интерпретации. По словам Ф. Соссюра, часто оно сводится к простому повествованию и целиком опирается на критику документов». Напротив, ретроспективное исследование «требует метода реконструкции, основанного на сравнении». Оно предполагает серию однородных явлений — сопоставимых в изучаемом отношении — в своей совокупности ведущих к обобщению. «Чем многочисленнее опорные моменты сравнения, тем точнее оказывается эта индукция» (см. Соссюр, Назв. соч., с. 96, 192). В истории слов и выражений связь этих обеих перспектив теснее, чем где-нибудь в другой области языкознания. Правда, возможны и резкие расхождения их по разным направлениям или только кажущиеся совпадения. Отсутствие надлежащей документации очень часто придает проспективному рисунку изменений слова иллюзорный, крайне гипотетический или очень внешний характер. Понимание тех скрытых исторических процессов, которые отражаются в современных формах и функциях слова, нередко бросает яркий свет и на его далекое прошлое. Дело в том, что история слова, опирающаяся только на документы и на показания памятников, может отражать, и то до некоторой лишь степени, последовательность литературных употреблений слова, а вовсе не смену и не развитие его значений.
Более древние и первоначальные значения слова часто находят очень позднее отражение в литературной традиции, а иногда и вовсе не проникают в нее, будучи, однако, очень живыми и действенными в современной устной речи. Понятно, что как проспективное, так и ретроспективное исследование слов и выражений всегда опирается на общее представление о последовательных рядах семантических превращений, об исторических закономерностях семантического развития, на историческую науку о развитии мышления, материальной культуры и общественных мировоззрений.
V
Восстанавливаемая историческим исследованием схема изменений значений слова не совпадает с живыми представлениями говорящих или говоривших о функциях и употреблении этого слова. Вот почему субъективные свидетельства современников о семантическом строе слова, о восприятии его в ту или иную эпоху должны быть процежены через сито исторических фактов. Они должны быть проверены и осмыслены с объективно-исторической точки зрения. Противоречие между субъективным историческим пониманием слова, присущим коллективу или отдельным его представителям, и между объективно-исторической, проекционной схемой движения значений этого слова — вот новая антиномия исторического исследования.
Общественная оценка новизны слова, ощущение слова, как неологизма, в литературном сознании того или иного времени — отнюдь не является объективно достоверным и окончательным свидетельством о времени «рождения» слова. При проекционном исследовании субъективные показания этого рода имеют лишь вспомогательное значение. Они играют только направляющую роль, служа средством ориентировки. Вопроса о том, не существовало ли раньше того же слова в другой среде, в другом стиле, не было ли оно законсервировано в памятниках старой письменности, хотя бы в других значениях, эти показания не решают. Например, Я. К. Грот считал, что слово даровитый относится к числу «новых словообразований» послекарамзинского периода35. Между тем, в начале XIX в. (в 20—30-х гг.) развилось лишь пассивное значение этого слова: `одаренный, обнаруживающий дарования'. В значении же `любящий дарить, щедрый' слово даровитый исстари употреблялось в высоком стиле книжного языка и лишь к XIX в. это словоупотребление сильно заглохло в связи с распадом старой системы высокого стиля (ср. сл. 1867—1868, 1, с. 641).
Н. И. Греч (Чтения о русском языке, 2) и Я. К. Грот (Филол. разыск. Труды, 2, с. 14) относили образование таких слов, как возникновение и исчезновение к 30—40 гг. XIX в. И, действительно, эти слова не помещены в словаре 1847 г. В. И. Даль склонен был считать слово возникновение ненародным, нерусским: «Если... нас заставляют читать: при возникновении литературы, то неужели еще полагают вдобавок уверить нас, что это по-русски, или что нельзя было обойтись без этого бесподобного оборота, по недостатку на языке нашем слов, для пояснения самобытных мыслей писателя»36. Между тем, слово возникновение — едва ли не старославянизм. Во всяком случае, оно находится в словарях церковнославянского языка Миклошича (с примером из Патерика XIV в.) и Востокова. А. Н. Попов отметил слово возникновение в «Чтении на Крещение Господне» (по сербскому списку XIV в.)37.
И все-таки субъективные свидетельства о словах, об их значениях и стилистических качествах, об их внутренних формах, об общих свойствах лексической системы литературного языка в ту или иную эпоху, о составе и функциях словаря отдельных стилей имеют громадную историческую ценность. Но, как и всякие исторические документы и личные впечатления, они подлежат суду исторической критики. Скрытое в них зерно объективной языковой действительности может быть чрезвычайно ценным. Очень часто они помогают исследователю глубже проникнуть в имманентную систему лексико-семантических категорий и отношений, свойственных языку той или иной эпохи. Вот пример. Слово возраст до XVIII в. обозначало `рост, величину'. В переносном и расширенном значении оно издавна могло указывать на период, степень в развитии человека: возраст младенческий, отроческий, юношеский, мужеский, позднее и старческий. Для этого переносного значения был далеко не безразличен вопрос, осознается ли связь слова возраст с глаголом возрастать `прибавлять в росте, увеличиваться'. Пока эта связь была жива, применение слова возраст к периоду увядания человека оказывалось затруднительным. Это словоупотребление могло укрепиться лишь тогда, когда основное значение слова возраст — `рост, величина' вышло из литературного употребления и сохранилось лишь в церковном языке (ср. определение значений слова возраст в словаре Академии Российской и в словаре 1847 г.). Характерно, что выходец из духовной среды Г. И. Добрынин в своих «Записках» (конца XVIII — начала XIX в.) все время иронизирует над Академическим применением слова возраст к периоду старческой жизни. «Видно было по всему, что он силился шаг свой сделать твердым, осанку горделивою; в самом же деле, на зло бодрости, волочил ноги, хотя и не очень был сед; а когда зачитал молитву, то еще больше дал приметить, что шестьдесят третий год его жизни требует принадлежащей себе дани». К слову жизни сделано примечание: «По-академически: его возраста. Но дядя мой, не уважая академического смысла, давно уже понижался, а не возрастал» (Русск. старина, 1871, № 4, с. 205). Ср.: «Нет сомнения, что он скончался, по счету моему на 60-м году своего века, или по-академически — своего возраста» (там же, с. 217—218). «Я старее многих в моем отечестве университетов и веком и службою». К слову век сделано примечание: «По-ученому: возрастом, но мне уже без мала 40 лет, как я вырос, и более не расту» (там же, с. 345). Ср. в языке А. Н. Островского: прийти, вступить в возраст `стать взрослым'. В комедии «На бойком месте»: «Приходит девушка в возраст и нам должно». В пьесе «Красавец-мужчина»: «Я вступила в совершенный возраст». Ср. «У тебя сестра девка на возрасте» («Семейная картина»).
Значение `рост' поддерживалось в слове возраст употреблением прилагательного возрастный в значении `взрослый, выросший' (ср. великовозрастный). Например, в романе В. Т. Нарежного «Бурсак»: «Асклиада вышла за Марсалия и теперь мать многих возрастных детей».
Ф. де Соссюр утверждал, что субъективный анализ языковых единиц, ежеминутно производимый говорящими субъектами, и объективный анализ их, опирающийся на историю, соотносительны. И тот и другой основаны на одинаковом приеме — на сопоставлении рядов, в которых встречается тот же элемент. Исторический анализ — лишь производная форма непосредственного анализа самих говорящих субъектов. «Он, в сущности, состоит в проецировании на единой плоскости построений разных эпох» (Соссюр, Назв. соч., с. 168), в объединении тожеств и в установлении между ними генетической связи.
Общеизвестно, как искусно пользовались субъективными показаниями говорящих, их живым языковым опытом, их пониманием живых категорий языка И. А. Бодуэн де Куртенэ, В. В. Радлов, Л. В. Щерба. Особенно ценны эти свидетельства живых носителей языковой системы, принадлежащие тонким и глубоким «природным лингвистам», когда они относятся к стилистическому употреблению слов, к их экспрессии, к их внутренним формам и к объему и связи их значений. Ведь объем и содержание слова — при кажущемся единстве его номинативной функции — исторически изменяются38.
Статья представляет собой доклад, прочитанный В. В. Виноградовым на Научной сессии ЛГУ во второй половине ноября 1945 года. Тезисы доклада были опубликованы в том же 1945 году, а затем — в томе Избранных трудов В. В. Виноградова по лексикологии и лексикографии (М., 1977). Полный текст считался утерянным. Оригинал — рукопись и машинопись (74 стр.) с авторской правкой — хранился в архиве В. В. Виноградова. Судя по исправлениям в тексте и по многочисленным добавлениям на листках разного формата, автор предполагал продолжить работу над текстом как над отдельной статьей.
Статья подготовлена к печати по машинописному тексту, выверенному по рукописи, с рядом добавлений, сделанных на отдельных листках и с очевидностью относящихся к соответствующим частям доклада. — В. П.
1 О так называемом «деле славистов» см.: Робинсон М. А., Петровский Л. П. «Н. Н. Дурново и Н. С. Трубецкой: Проблема евразийства в контексте ”дела славистов“ (по материалам ОГПУ — НКВД)» // Славяноведение. М., 1992, № 4.
2 Ранний общий план книги, который в статье Г. Ф. Благовой назван «тобольским», в архиве В. В. Виноградова нами обнаружен не был.
1 См. статью Ф. Оберпфальцера о классификации семасиологических изменений в Μν〟μα. Sbornik vydaný na pamĕt' čtyřicetiletého učitelského působení prof. Josefa Zubatého na universitĕ Karlovĕ. 1885—1925. Praha. 1925 (с. 339—352). Оберпфальцер предлагает разделить всю совокупность семантических изменений на четыре основных группы: 1) перенесение значений в самом широком смысле слова (метафоры, эвфемизмы, метонимии, гиперболы); 2) семантические сдвиги под влиянием причин конструктивного языкового характера (влияние форм речи, строения предложений); 3) социальные факторы в жизни слов (переход слова из одной социальной группы в другую, заимствование значений); 4) обусловленность семантических явлений материальной и духовной культурой. Уже непосредственно очевидно, что эта классификация искусственна.
2 См.: Энгельгардт Б. Формальный метод в истории литературы (1927): «Изучение языка в плане ”заумности“ практикуется в области лингвистики. Но там это обстоятельство не только не подчеркивается, с нарочитой резкостью, а скорее скромно замалчивается. В самом деле: хотя почти во всякой работе по лингвистике общего характера мы встречаем категорические заявления о том, что слово должно изучаться непременно в его соотнесенности к целой фразе, фраза в связи с контекстом и т. д., что, говоря иначе, каждый отдельный элемент сложного словообразования должен рассматриваться в аспекте целого и, прежде всего, в аспекте данного смыслового единства, однако на практике принцип этот далеко не выдерживается, и элементы словесного ряда, как единой структуры, подвергаются анализу именно в своей отдельности и обособленности. Ясно, что при этом момент их соотнесенности к смысловому единству ”содержания“ отпадает, и исследование неизбежно переводится в заумный план» (с. 58—59).
3 Meillet. A. L'etat actuel des études de linguistique genérale. Leçon d'ouverture de cours de grammaire comparée au Collége de France. Lue le mardi 13 Février. 1906, Paris. P. 19.
4 Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 286.
5 См. часть III настоящего издания. — Ред.
6 Коген М. О. Несколько поправок и дополнений к «Этимологическому словарю русского языка А. Преображенского» // Изв. ОРЯС АН. 1918. Т. 29. Кн. 1. С. 31.
7 Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. М., 1933. С. 173.
8 Корш Ф. Е. Отзыв о сочинении М. Р. Фасмера «Греко-славянские этюды» // Сборник отчетов о премиях и наградах за 1909 г. СПб., 1912. С. 579.
9 Долобко М. Г. Славянский суффикс -i-m- // Сб. статей в честь А. И. Соболевского. Л., 1928. С. 229—230.
10 Вандриес Ж. Язык. Лингвистическое введение в историю. М., 1937. С. 167—168.
11 См. об этом: Ф. де Соссюр. Указ. соч., с. 173.
12 См. там же, с. 166.
13 Ф. де Соссюр. Указ. соч., с. 96.
14 Ф. де Соссюр. Указ. соч., с. 109.
15 Там же, с. 110.
16 Там же, с. 111.
17 Там же, с. 95.
18 Там же, с. 167.
19 Там же.
20 См. Улашин Г. Критико-библиографические заметки о некоторых исследованиях, посвященных польскому языку // Изв. ОРЯС АН. Т. 12. Кн. 1. 1907. С. 479.
21 Бодуэн де Куртенэ И. А. Лингвистические заметки // ЖМНП, 331, 1900, октябрь. С. 370—371. Его же. Лингвистические заметки и афоризмы // ЖМНП, 346, 1903, апрель. С. 319. Об изменении реальной семантики слов в зависимости от контекста, напр. обособлении наречий сё (с'о) и сётки (с'отъки) от местоимения весь, всё или образовании частицы гри (гр'и), гът из слова говорит: см. Каринский Н. М. Очерки языка русских крестьян. М., 1936. С. 93.
22 Никольский А. И. Сказания о двух новгородских чудесах из Жития св. Иоанна Предтечи и крестителя Господня // Изв. ОРЯС АН. Т. 12. Кн. 3. 1907. С. 107—109, 110.
23 П. Висковатов. В. А. Жуковский как народник // Русск. старина, 1902, август. С. 255.
24 Журнал «Время», 1863, янв. Страхов Н. Н. Из истории русского нигилизма. СПб., 1890.
25 К истории слова «нигилизм». Сб. статей в честь акад. А. И. Соболевского М., 1928 // Сб. ОРЯС АН СССР. Т. 101. № 3. С. 413—417.
26 Ср. у Niederle L. в Slovanské starožitnosti Svazek. I (Praha. 1911) изображение тризны, как символической игры, сопровождаемой питьем и пением (см. рецензию М. Н. Сперанского в Этнограф. обозр., 1912. № 3—4, с. 69).
27 Любопытно, что и в словаре 1847 г. слово тризна считается старинным. Отмечены 2 значения: 1) языческое поминовение усопшего; 2) рыцарские игры при поминовении усопшего.
28 См. Грот Я. К. Зап. о сл. Даля // Зап. Имп. АН, т. 20, кн. 1. С. 18. Однако, ср. указания на то же значение этого слова: `раздор, несогласие' в словарях Академии Российской и в словаре П. Соколова. В словаре Академии Российской (1822): «Рознь, зни, с. ж. 4 скл. стар. 1) Раздор, несогласие. И в людех ваших во всех рознь. Голиков. Дополнения к Истории Петра Великого, З. 354. 2) Одиночество, особенность, число несовокупное. Разойтись в рознь». В словаре П. Соколова пометка — «старинное» — устранена; первое значение определяется так: то же, что разность; второе: разбор, несогласие.
29 Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разуме. 1936. Перевод П. С. Юшкевича. С. 295.
30 Дементьев А. А. Суффикс -ик и его производные // Уч. зап. Куйбышевск. Гос. Пед. ин-та, 1942. Кафедра языкознания. В. 5. С. 42.
31 Это мнение П. Струве высказал в докладе на 4-ом съезде русских ученых в Белграде в 1928 г. (см. Slavia, 1930, ročn. 9, seš. 1, с. 213).
32 Аксаков К. С., Соч. Т. 1. М., 1861. С. 139.
33 Чичерин Б. Н. Областные учреждения России в XVII в. М., 1856. С. 2 и след., с. 3—5, с. 10—11.
34 См. Иловайский Д. И. История России. Т. 2. М., 1884. С. 522.
35 Грот Я. К. Записка о Толковом Словаре Даля // Зап. АН, 1871. Т. 20. Кн. 1. С. 18.
36 Даль В. И. Полтора слова о русском языке // Собр. соч. Т. 10. С. 577.
37 Библиографические мат-лы... Чтения в Общ. Истор. и Древн. Российск. 1880. Кн. 3. С. 283.
38 См. у Маутнера: «Представление какого-нибудь человека может испытывать прирост, хотя знак этого представления остается без изменения. Слово ”земля“ оставалось неизменным в течение столетий, а понятие становилось все богаче из поколения в поколение» (Fr. Mauthner. Beiträge zu einer Kritik der Sprache. B. l. 1901. S. 129).